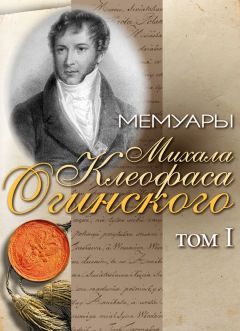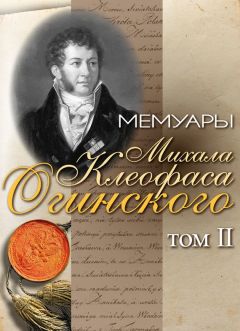Чтобы немного отойти от дел, я решил уехать из Парижа в Голландию и там дождаться более благоприятных событий, которые могли произойти после возвращения Бонапарта во французскую столицу. Но мне пришлось отложить отъезд на несколько дней: соотечественники упросили меня задержаться, чтобы здраво, разумно и всесторонне осмыслить возможности созыва польского сейма в Милане и попытаться выяснить, как относится к этой идее правительство Франции.
Когда я прибыл к Шарлю Делакруа, чтобы вернуть копию решения Директории и рекомендательные письма для генерала Бонапарта, я увидел, что министр не только огорчен провалом нашего плана, но и чрезвычайно озабочен предстоящими переменами в министерстве, после которых он останется без портфеля. Стоило мне только заговорить о нашем сейме в Милане, как министр лишь пожал плечами и сухо сказал, что эта затея просто смешна.
Однако такой ответ вовсе не устроил моих соотечественников, которым очень хотелось знать, как на самом деле Директория реагирует на наши намерения о созыве сейма. Они утверждали, что мнение Шарля Делакруа, который слыл якобинцем и скоро уйдет в отставку, не является авторитетным, и склонили меня к тому, чтобы я попробовал получить информацию из более компетентных источников. И я решил обратиться к гражданину Бонно, бывшему временному поверенному в делах и генеральному консулу Франции в Варшаве. Русские арестовали его в Польше и продержали пятнадцать месяцев в тюрьме. Не так давно Бонно освободился и вернулся в Париж, где его встретили с большим почетом. Некоторые члены Директории испытывали к нему личные симпатии и особое доверие.
Вернувшись на родину, Бонно по-прежнему живо интересовался событиями в Польше и горячо поддержал идею о созыве сейма в Милане. По его словам эта идея вызвала немалый интерес в Директории. Поскольку ответ бывшего дипломата имел слишком общий и довольно расплывчатый характер, отражавший скорее его личное мнение, нежели позицию французского правительства, было принято решение, чтобы я обратился к нему с письменным запросом. При этом предполагалось, что письмо мое он мог бы показать своим друзьям из Директории и услышать их суждения из первых уст, в чем, собственно, мы и нуждались.
Вот это письмо от 28 апреля:
«Гражданин! За двадцать пять лет пребывания в Польше вы прекрасно изучили нашу страну и характер нашего народа. Своей деятельностью и благоразумием вы снискали себе всеобщее уважение. Любовь к свободе, за которую вы подверглись гонениям, поставила печать на всех документах, удостоверяющих ваш статус достойного гражданина своей родины, интереснейшей личности в глазах сторонников гуманизма, почтенного человека среди всех людей доброй воли. Сознавая все это, мы с несказанной радостью восприняли новость о вашем приезде в Париж. На встречах в правительстве вы, конечно же, не могли обойти тему Польши. Вы не могли поступить иначе как официальный представитель Франции, ее гражданин и человек, преданный делу свободы и независимости…
Разумеется, не нам надлежит уточнять намерения французского правительства о действиях по восстановлению Польши. Но нам бы очень хотелось предугадать, предвосхитить пожелания французских партнеров о том, что мы могли бы сделать с нашей стороны для успеха общего дела…
Вы хорошо осведомлены, гражданин, о нашей беззаветной преданности родине, о наших связях и отношениях с соотечественниками в Польше, и вряд ли вас удивит наша просьба: нам очень важно знать, рассматривалась ли в правительстве наша инициатива о созыве польского сейма в Милане? Мы были бы весьма признательны за ответ, полученный от источника, который, как и вы, гражданин, вызывает у нас высокое уважение, доверие и т. д.
Михал Огинский».
Через два дня ко мне приехал Бонно, поблагодарил за наши добрые слова в свой адрес и за наше доверие, которое, по его мнению, он вполне заслужил своей преданностью польскому народу. Затем он сообщил, что передал мое письмо двум членам Директории, которые склонны считать, что наличие польского национального представительства в Милане в будущем могло бы стать весьма полезным. Однако все зависит от развития событий, предсказать которые никто не может. Бонно честно признался, что на сегодняшний день нет никакого единства мнений даже среди членов Директории, не говоря уже о всей Франции. В этих условиях ничего не остается, как ждать перемен, которые наступят после подписания мира с Венским двором и возвращения генерала Бонапарта. Это все, что я услышал от Бонно, и чем я мог поделиться с соотечественниками. На предоставление ответа в письменном виде Бонно разрешения не получил.
30 апреля к нам пришла весть о том, что Костюшко после освобождения из петербургской тюрьмы прибыл в Гамбург. Мне было поручено написать ему письмо от имени всех соотечественников, находящихся в Париже, и поздравить славного поляка с выходом на свободу, а также выразить, как глубоко мы все тронуты великодушием российского самодержца по отношению к вчерашнему врагу. Все горели желанием вновь встретиться с Костюшко и тешили себя надеждой, что восстанавливать свои силы и здоровье он приедет во Францию. Я отмечал в письме, что освобождение Костюшко окрылило нас, и мы, как и все поляки, преисполнены к нему самых высоких чувств.
От себя лично я послал Костюшко еще одно письмо. Так же поступил и Барс. Через три недели, когда я уже находился в Брюсселе, пришел ответ от Костюшко. Барсу он тоже написал. Не желая никому лишних неприятностей, Костюшко не стал отвечать на наше коллективное послание с сорока подписями и ограничился тем, что в письме ко мне выразил свою глубокую признательность всем нам за теплые приветствия и добрые пожелания, которые растрогали его до глубины души. Он также подчеркнул, что никогда не прекратит своей деятельности на благо отечества.
Соотечественники никак не хотели отпускать меня из Парижа и уговаривали, чтобы я занялся организацией национального представительства в Милане. Уже несколько дней Барс то и делал, что собирал аргументы в пользу этого проекта. А Выбицкий почти не выходил из моей комнаты, пытаясь убедить меня в достоинствах плана о созыве сейма. И тот, и другой не сомневались, что мой отъезд не помешает им осуществить свои намерения. При этом они рассчитывали на поддержку французского правительства и генерала Домбровского, который разделял их взгляды и в то время находился со своими легионами в Италии. Барс и Выбицкий решили подготовить и разослать циркулярное письмо членам сейма, оставшимся в Польше, полагая, что моя подпись придаст дополнительную весомость документу и поможет бывшим депутатам сделать свой выбор в пользу созыва сейма в Милане.
Как мог я пытался показать им бесперспективность и нецелесообразность этого проекта. Говорил про угрозы и опасности, которые мы можем навлечь на уважаемых, добропорядочных людей, уже принесших немало жертв для своей страны. Растолковывал, что если мы – изгнанники, потерявшие свое имущество и оставшиеся без копейки, можем сами распоряжаться своей судьбой и строить как хотим свои призрачные планы, то призывать собственников оставить свои владения, отрывать отцов от детей и втягивать их в неразумное, рискованное и, как я считал, бесполезное дело – было бы опрометчиво, бесчеловечно и недостойно с нашей стороны.
В правоте своих резких возражений я не сомневался еще и потому, что текст циркулярного письма, которое предполагалось послать в Польшу, показался мне бездарным. В письме давалось неверное толкование сущности вопроса, и частное мнение нескольких поляков было представлено в виде официальных предложений, якобы принятых Директорией.
Меня внимательно слушали, потому что хотели получить мою подпись. В конце концов, я ее поставил, но только после продолжительных дискуссий и после того, как сам отредактировал этот опус. Я максимально сократил текст и ясно изложил принципы, которые легли в основу проекта о созыве представителей конституционного сейма в Милане. При этом в тексте не было никакой агитации ни в пользу, ни против этого проекта.
Мы давали понять, что правительство Франции не отвергает данную инициативу, и обращались к бывшим представителям сейма взвешенно отнестись к проекту и поступать в соответствии со своими убеждениями, опытом и патриотическими чувствами.
Письмо подписали Мневский, Ташицкий, Прозор, Выбицкий, Барс, Валихновский, Раецкий, Кохановский, Войчинский и многие другие. Содержание письма и все выражения теперь не вызывали никаких замечаний, и я без колебаний под ним подписался. Впрочем, я был уверен, что инициаторы проекта напишут личные письма своим друзьям в Польше. Но это было уже не мое дело.
Я считал, что на конвертах не следует указывать фамилии получателей нашего письма, а лучше обязать курьера выучить их наизусть. Меня не послушались и специально написали фамилии таких адресатов, как Адам Чарторыйский, Игнаций Потоцкий, Малаховский, а также самых влиятельных депутатов сейма, так как решили, что без этих фамилий наше послание сочтут подозрительным и все наши старания будут напрасными.