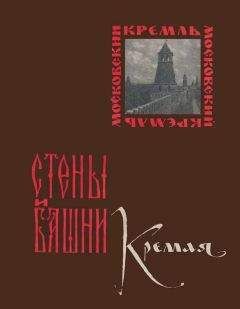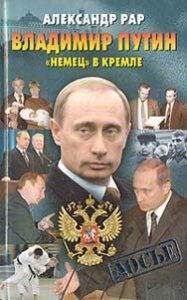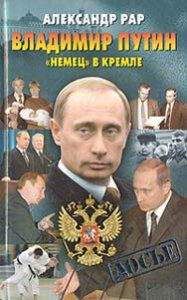брежневской — мотор часто работал вхолостую и грозил вовсе заглохнуть. Придя к власти КГБ, Андропов осознал это со всей проницательностью своего имперского мышления.
Прежнее горючее — коммунистическая идеология — дало замечательный рост производительности политической полиции к концу 30-х годов, во время Великого Террора, но было полностью исчерпано уже во время войны, коща Сталин попытался — Солженицын совершенно прав — в срочном, аварийном порядке заменить его другим идеологическим горючим — великодержавным национализмом. Но он не успел осуществить это до конца — умер, а его преемник Хрущев резко сократил поставки идеологического сырья не только Комитету госбезопасности, но и всей стране. Память о былых подвигах, привычка к безнаказанности и традиции самовластья мешали КГБ удовлетворяться своим новым статусом в послесталинскую пору. Ослабшая организация вынуждена была искать союзника для реставрации былой мощи: у нее имелось достаточно сотрудников и инструментария и единственно, чего не хватало, — идеологического вдохновения. Но и Пегас, которого КГБ предстояло оседлать, уже застоялся в конюшнях и стучал копытом.
Надо сказать с самого начала, что Андропов не был оригинален в выборе союзника — полицейским тенденциям в русской политической истории неизменно сопутствовали истерические подъемы великодержавного национализма. Так было во времена не только Сталина, но и таких реакционных императоров, как Николай I, Александр III и Николай II. К примеру, “Протоколы сионских мудрецов“, международный шедевр антисемитизма, были сочинены в русской полиции, и она же в 1905 году организовала вооруженные банды погромщиков — “черные сотни“, предтечи и прообраз гитлеровских штурмовиков. Поэтому русские национал-шовинисты были не только естественным и неизбежным, но и традиционным союзником тайной полиции и вместе с нею составляли, с одной стороны, мощный противовес либеральным настроениям в метрополии и национально-сепаратистским в окраинах, а с другой — оппозицию официальной власти, если та вела себя излишне благодушно по отношению к этим разрушительным для империи тенденциям. Собственно говоря, именно в оном качестве — как противовес и оппозиция — русский национал-шовинизм и возник наново в 60-х годах, был сразу подхвачен и тайно поддержан Комитетом государственной безопасности еще при Шелепине и Семичастном — предшественниках Андропова. Стихийным настроениям — главным образом среди военных и писателей — Андропову предстояло придать организационные формы и легальный статус.
Возникновение идеи, как известно, — это ответ на ее отсутствие. Русская идея возродилась в период затянувшейся идеологической паузы, когда не только в КГБ, но и в самой бюрократической системе государства созрела необходимость в новых стимулах взамен коммунистических, вышедших из строя и срабатывающих разве что по инерции. Тем более, что к началу 70-х годов в России образовались уже не одна, а две бреши, две торричеллиевы пустоты, куда, как ртуть в барометре, устремились новые идеи и новые лозунги: идеологическая пустота и политическая пустота. Первая — в связи с отмиранием коммунистической идеологии, вторая, чуть позже, — в связи с физическим одряхлением кремлевских геронтократов. Было бы даже удивительно, если б в этой ситуации, при столь выгодных условиях, не появилось оппозиционное движение с претензиями на духовное лидерство и политическую власть. При отутствии в СССР свободы как политической реальности и исторической традиции эта оппозиция должна была возникнуть справа как полицейская поправка к советской власти. Таков ответ не только на отсутствие в стране идеологии, но и на эмбриональные проявления либерализма. Не менее естественно, что идеология, претендующая на укрепление власти в многонациональной империи, должна была принять великодержавные черты. Более того, возрождение русского национал-шовинизма проходило с некоторым запаздыванием по сравнению с ростом украинского, литовского, еврейского, грузинского и других “малых“ на-ционализмов, потому что был ответной и, как казалось его идеологам, защитной, оборонительной реакцией.
Это требует верного понимания. Русские не раз доказывали — и во времена Отечественных войн с Наполеоном и Гитлером, и в более мирные времена польских восстаний прошлого столетия либо венгерского и чехословацкого в этом — боевую готовность защищать империю от внешних (французы, немцы) и внутренних (поляки, венгры, чехословаки) врагов. Ведь империя — их единственное политическое детище, высшее политическое достижение за последние столетия и так же дорога им, как, скажем, демократия американцам. Ради создания империи они пошли на колоссальное перенапряжение сил, на невиданные жертвоприношения и теперь уже даром ее не отдадут. А хронический страх империи перед распадом воспринимается на разных уровнях имперского самосознания как страх перед национальным исчезновением, ибо иных форм существования, кроме имперского, на исторической памяти русских нет. Рост центробежных сил поэтому вызывает усиление и совершенствование центростремительных, насильственных связей, то есть бюрократическую, военную, полицейскую и идеологическую интеграцию. Другими словами, русский национал-шовинист является конструктивным ответом империи на деструктивные тенденции внутри ее, активно поддерживаемые извне — прежде всего Соединенными Штатами Америки, главным мировым соперником советской империи. Так, во всяком случае, это выглядит в Москве — из окон Кремля, либо псевдоклассического здания на площади Дзержинского, где помещались штаб-квартира Комитета государственной безопасности и кабинет его председателя Юрия Владимировича Андропова.
Извне, конечно, иначе. Русский шовинизм — идеология страха. Но ведь это совершенно естественный страх перед распадом, и он становится в конце концов национальным стимулом империи как на правительственном, так и на народном уровне (речь, естественно, об имперском народе.)
В подъеме великодержавного национализма первостепенную роль сыграло также демографическое оттеснение русских на задний план в стране, где им принадлежит верховная власть (по сталинской терминологии русский народ — “старший брат“ в семье советских народов), а в количественном отношении они теперь уступают общей сумме народов, включая Восточную Европу, одновременно и подчиненных, и противостоящих им. То есть фактически сами русские находятся сейчас среди национальных меньшинств своей империи. Демографический этот регресс необратим, учитывая падение уровня рождаемости среди славян и рост ее среди советских мусульман. Плюс к этому — опять же демографический, а точнее, военно-демографический страх перед Китаем, жертвой чего в конце 1979 года пал Афганистан. Отсюда преимущественная окраска русского национализма этого времени: шовинистическая, великодержавная, империалистическая и колониалистская, с неизбежными чертами ксенофобии и антисемитизма. Такой национализм разрывает даже традиционные связи со славянофильством, наиболее распространенной формой русского национализма XIX века, ибо теперь славяне — поляки, чехи, словаки, украинцы — такие же враги (потенциально — военные), как неславяне — венгры, афганцы, эстонцы, грузины или румыны. Естественно поэтому влияние русофильской пропаганды в армии и покровительство ей не только Андропова, но и таких высокопоставленных, как маршал Чуйков и генерал Епишев, военных, страстных адептов национал-шовинизма.
С самого начала русская националистическая идеология существовала в армии, там она нашла страстную поддержку у сталинистов: реабилитация Сталина в военных кругах, спустя десятилетие после разоблачения Хрущевым, началась с реабилитации его как