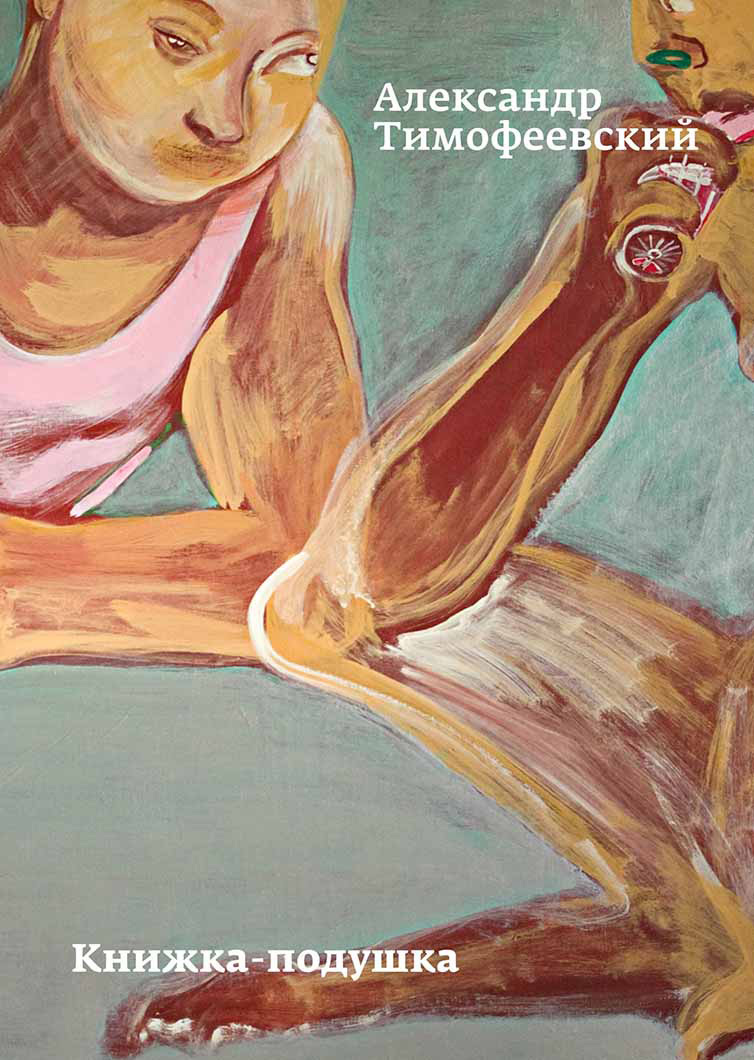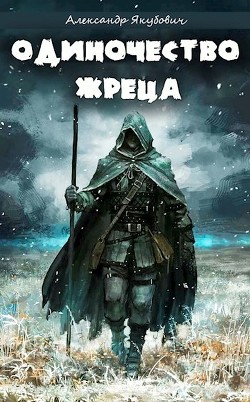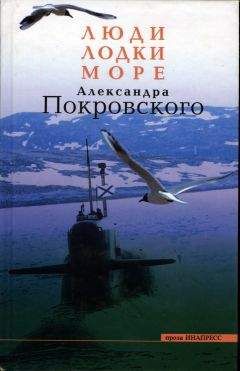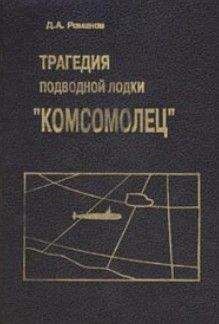оделся Александровым с Орловой. Но пронзительней всех это сделал Мамышев-Монро в своей великой работе «Любовь Петровна Орлова после творческого вечера на крейсере Аврора». Сегодня 9 дней со дня гибели Владика.Весна bobo
Судьба фильма «Весна» сложилась счастливо, даже на удивление. Как все комедии Григория Александрова с Любовью Орловой, «Весна» стала всенародно любимой при выходе (1947), сразу разошлась на цитаты и десятилетиями показывалась по телевизору, встречаемая радостным гы-гы. Конечно, такого заезженного триумфа, из года в год на одной и той же самой высокой ноте, какой выпал «Веселым ребятам», «Весна» не пережила, но с «Ребятами» вообще мало что сравнится. Зато не было и глухого кулуарного ропота, который, начиная с шестидесятых годов, сопровождал «Цирк», «Волгу-Волгу» или «Светлый путь»: ширнармассы по-прежнему подпрыгивали перед ящиком, но продвинутая публика уже просвещенно фыркала на государственный апофеоз, всякий раз выдаваемый за развязку комедии. В семидесятые это фырканье обогатилось словом «миф» и цветущей сложностью чувств: фильмы Александрова фрондерская интеллигенция теперь смотрела с тем же мазохистским восторгом, с каким листала журнал «Корея». Все эти перипетии «Весны» почему-то не коснулись, хотя с «мифом» там был полный порядок: главная героиня фильма ученая Никитина, возглавляющая институт Солнца, солнцем хочет управлять – ну совершенно, как Иисус Навин.
Эстетическая пропасть, которая отделяла «Весну» от оттепели, с годами неуклонно росла, но фильм не поглотила. Хотя казалось бы. В моду вошли Феллини и Антониони, а с ними экзистенция и психологизм, некоммуникабельность «стиля шпилек» и общая драматическая истеричность, напряженная Анук Эме, отрешенная Моника Витти, рядом с которыми наша Любовь Петровна смотрелась совсем топором рубленной. Параллельно все больше торжествовала во времени и так никуда и не сгинула обретенная «правда жизни»: как бы документальное кино, нарочито неряшливое, заикающееся, с деталями сиюминутного, с обыденностью, застигнутой врасплох.
Если надо этому найти буквальную противоположность, то вот она – «Весна» – насквозь искусственная комедия положений, с блистательной, по линейке выстроенной путаницей, демонстративно безразличная и к психологии, и к правдоподобной бытовой детали. Сверкающий пустейший сюжет про сверкающую пустейшую жизнь, и это в 1947 году, когда были разруха и голод, и страшный бандитизм, и всякий Жданов, и жадная свежайшая волна террора. Понятно, что ничего подобного в тогдашнем кино отразиться не могло, но и картинок во вкусе Vogue никто от Александрова не требовал. Что-то посередине пришлось бы в самый раз, и в тогдашнем кино этой середины навалом: опрятная бедность в очках и под абажуром, венский стул, щербатый стол, в чайных розах скатерть, дырчатые, словно заштопанные занавески, подоконник, утыканный кактусом. Все сгорбилось, ссутулилось, пригнулось. Стушевалось, как говорил Достоевский. А тут грудь вперед, задранная голова, двухэтажная квартира – какой простор! – с огромными, залитыми солнцем окнами, ускользающая геометрия ар-деко, свободная игра объемов, без всякой суеты – дышать можно: хоть сейчас заезжай и живи. Да и вся картина была под стать своим интерьерам: наглая высотка посреди типового строительства. И никто ее не опрокинул, даже не подвинул, хотя в шестидесятые и не такие столпы рушили. Высотки закачались. Закачался и Александров, а вот «Весна» – нет.
Почему?
Ответ укладывается в одно слово: Фаина. Для тогдашних опрокидывателей из кино она была приблизительно тем же, чем Ахматова для людей пишущих. «Но жалеет он очей старой бабушки своей» – жалить можно было кого угодно, только не Раневскую, которая ведь неслучайно оказалась на съемках у Александрова. «Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами, что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать», – говорила Раневская, и в этой фразе, конечно, есть насмешка, но нежности в ней больше. В «Весне» Раневская не просто сыграла одну из лучших своих ролей в кино, но очевидно обжила этот фильм и любовно-уютно в нем расположилась. Ее героиня – фрик Маргарита Львовна – своим радушным присутствием освятила александровскую картину, и нам осталось, собственно, одно: уяснить, что именно заслужило ее освящения.
«Весна» – образцовая антинародная картина. Даже слуги – Раневская и Плятт – здесь социально чуждые, старорежимные. «Простых людей» нет совсем – ни почтальонши Стрелки, вызвавшей массовый экстаз на Речном вокзале, ни многостаночницы Тани Морозовой, летающей на автомобиле вокруг ВДНХ, ни фирменного финального гимна в честь новой общности, ни, наконец, самой этой общности – советского человека. Зато есть две пары, и обе – салонные, одна: ученая и режиссер, вторая: артистка и журналист. В Москве, где они живут, принято иметь домработницу и шофера, элегически бродить по городу, но в случае надобности ездить только на автомобиле. Говорят тут об одних абстракциях: является ли ученый пустынником, целиком ушедшим в науку, или ему доступна весна, открыта любовь?
Режиссера играет гениальный Черкасов, незадолго до того ставший Иваном Грозным у Эйзенштейна. Режиссер Черкасова это Иван без власти, без воинства, без державы, но с грозной статью, голосом и взором. Креативщик, как сказали бы сегодня. Может вести любую пресс-конференцию. В нем все – стремление, все – жест: вулкан, извергающий вату.
Журналиста играет совсем не гениальный Михаил Сидоркин. Лицо из зала на пресс-конференции. Ни стати, ни голоса, ни взора, никаких стремлений, одни щеки – вата, которую изверг вулкан.
Между женщинами связь не опосредованная, а прямая: обеих играет Любовь Орлова.
Ученая Никитина – сама рассеянность и погруженность в себя, английский костюм, небрежный пучок на затылке, элегантнейшие роговые очки. Никитина – Марфа. Евангельская Марфа в мире победившего пролетариата хлопочет не по хозяйству, а по науке, творит солнечную энергию, она зав. мироустройством.
Артистка Шатрова – сама непосредственность и открытость, сияющие глаза, локоны и газ. Ей хлопотать не надо, она – Мария.
В наши дни Шатрова-Мария сидит в пиар-агентстве: к ней тянутся сердца. Никитину-Марфу надо искать там, где куется мироустройство, – в крупной промышленной или финансовой корпорации. В науке она не водится потому, что нет науки, но солнцем управляет по-прежнему – у себя в загородном доме.
Опрокидывание в современность неизбежно. Языком 1947 года александровская четверка никак не описывается: они кто угодно, только не «трудовая советская интеллигенция». Теперешним языком они определяются мгновенно: это bobo, бобошки, буржуазная богема, возникшая, оказывается, не в двухтысячные, как все думали, а при позднем тов. Сталине.
Фильм строится на том, что Шатрова и Никитина меняются местами, Никитина идет на киностудию, Шатрова – в институт Солнца, и это порождает совсем не только путаницу. Марфа становится Марией, Мария – Марфой. Для Александрова это главное. Орлова недаром сыграла обе роли. Это не просто два костюма, два имиджа, два разных выхода. Есть день и вечер, зима и весна, град и дождь – журчат ручьи, кричат грачи, и тает снег, и сердце тает: преображения требует природа. Преображение это жизнь, преображение это свобода. Как показать свободу в 1947 году? Идут аресты, и есть нечего. Лишь в декабре, уже после того как фильм триумфально