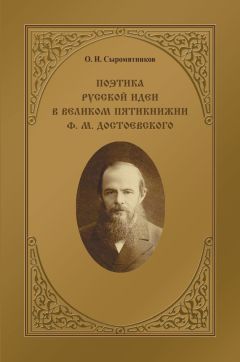А когда спасся от тюрьмы, было еще хуже. Из школы снайперов уехал с эшелоном на фронт, чтоб поскорее в бой, — упекли с штрафбат. Слава Богу, отделался ранением. А кто они, хранители железного сталинского закона? Фанатики идеи? Коммунисты без страха и упрека?
У Корсунова вся эта рать — жрущая, пьющая, насилующая женщин — умники, умеющие выживать в любых условиях. Всего и надо было — выдрать из себя совесть, последнее, что связывает безбожников с Богом.
Мэлс Сластин, бивший сапогом в живот Костину мать, пообещавший разорвать и съесть упрямого парня до суда, — звание чекиста заработал еще в школе. Сначала подправил свое имя: был Мэл — Маркс-Энгельс-Ленин, стал Мэлс — Сталина приписал. А Сталину служить надо. И Сластин упек своего учителя в ГУЛАГ.
Учитель на занятиях литкружка неосторожно высмеял стихи Мэлса, и обиженный донес: учитель читает школьникам запрещенных поэтов — Мережковского, Гумилева, Ходасевича. Бдительному комсомольцу — грамота и путевка в НКВД... Таков сталинский коршунок местного масштаба. А что на совести службистов московского полета? Того же Сергея Стольникова? От окопов спас себя, выстрелив в ногу. Ещё услышал, как его начальник Аристарх Каршин насилует Настю, его, Стольникова, жену. Оглох, может, и вовремя, с великой для себя пользой, а Настя взяла да и отравилась. Стечение обстоятельств. В Москве чекист Стольников влюбился — и опять же стечение обстоятельств. Сам же и арестовывал несостоявшегося тестя, честного комиссара Землякова. Умеешь покрывать своих, готов затоптать свое личное счастье ради служения товарищу Сталину — жируй, пока на тебя самого удочку не закинут. И жизнь растущего в чинах Стольникова складывается по сценарию доброго начальника — женил на дочке большого человека.
Так оно и сотворялось — будущее предательство, свершившееся в наши дни. Стольниковы, каршины, мэлсы сластины — они жить хотели, они и продадут страну — за свою сладкую жизнь.
Вот какая мысль приходит после прочтения "Высшей меры".
Германия в романе предстает такой же — доносы, аресты. Пожал в концлагерь Ганс Рихтер: сделал ребенка русской рабыне, а в лагере жирные заключенные идут на мыло. Макс Рихтер, вхожий в кабинет Геббельса, рисовавший саму Еву Браун, не может спасти брата.
Получается, что русские, идущие в бой "за Сталина", что немцы, гибнущие за фюрера, — заложники времени. Все приговорены к высшей мере. Чем не Страшный суд?
Грандиозность охвата событий, исторических лиц, может быть, и делает книгу Корсунова отвечающей запросам современного читателя и господина Рынка: Гитлер, Геббельс, Гудериан, Паулюс, Сталин,Жуков, Павлов. Однако ж гложет сомнение: а не была бы эпопея еще пронзительнее, величавее — без этих фигур, без военных сцен?
Самое дорогое в "Высшей мере" — мысль о выдюживании народом великих эпох. Как это было у нас, как это было у немцев. Тут, если им и вводить баталии, так одну бы только окопную правду.
Но сделано у Корсунова так, как он сделал.
Его книга — подлинная энциклопедия крестьянской жизни предвоенного и военного времени. И еще, повторюсь, — горчайший укор потомкам победителей. Река Урал, казачий Яик, все мелеет и мелеет. Знать, жизнь у народа стала мелкой. Не достойны мы, уж очень терпеливые, великой могучей реки... Утеряли землю пращуров, опоганили славу отцов-воинов, самих себя бы теперь хоть не потерять.
Aiuthor: Владимир Галкин
Редакция, авторы и читатели “Дня литературы” тепло поздравляют с 65-летием со дня рождения нашего автора, самобытного русского писателя Владимира ГАЛКИНА и шлют ему самые добрые пожелания в жизни и в творчестве
Моей бесценной Валечке
Как-то разговорились мы с Андрей Андреичем о церебральном параличе, о рассеянном склерозе, о болезни Паркинсона, о Рузвельте, которого тайно застрелили свои же, о том, что вот-де, бывает же такое... Мы вспомнили о сотнях тысяч российских детей, ковыляющих в ужасной ортопедической обуви, трясущихся в колясках, почти ползущих к своей ранней смерти... Кто их водит, ухаживает за ними, какие больницы принимают этих беспомощных, бледных, в поту от усилий двигаться инвалидов, кому вообще нужны эти страдальцы, если и здоровые дети не нужны? А ведь эти обиженные природою, часто с большим умом, рано созревают и быстро стареют от физических и моральных мук. Даже своя семья — какая семья в наше страшное время выдержит растить /и учить!/ своего дитя-паука до 14-16 лет? Какая — если на помойках городов то и дело находят грудничков...
Андрей Андреич долго, волнуясь, прикуривал от зажигалки — видно было, что эта тема ему близка, — затянулся дымом, туда же всосал синюю рюмку коньяку и рассказал свой случай.
— Начало идиллическое. Июль. Жара. Пруд под Москвой. Там недалеко моя дача... Знаешь, ах, как. это мелко! Вот начать бы, как мой любимый Мопассан: "...В июле в Аржантейле, под Парижем, куда он отвёз её в воскресенье и катал по Сене на маленьком ялике, она, наконец, сдалась, она обещала..." А разве звучит "в Кратове, под Москвой, в сухом стоячем жару иссыхающих сосен..."?
Ну ладно, пусть будет как будет — как говорила обезьяна в объятиях друга-удава... Я лежал на траве и смотрел, как искрится водная рябь и особенно одна горящая полоса вдали — там расплавленное солнце вспыхивало особенно ярко, да ещё на фоне темного леса другого берега. Совсем недалеко, метров за пятьдесят, кто-то бурно плескался и создавал эту пылающую полосу. Наконец я различил женскую голову, даже лицо, оно было полностью закрыто струящимися волосами: уйдет под воду, бешено вынырнет, снова уйдёт, и всё с каким-то рычанием, будто захлебывается. И всё быстрее и быстрее. Так тонут. Господи, подумал я, ещё одна утопающая. Я таких вытаскивал в былые годы, даже в детстве товарища поднимал со дна, даже пришлось тонущую в наморднике собаку тянуть за хвост к берегу. И вот — ещё повод для подвига. Наверно, ногу свело, как пить дать.
Бешеным кролем, как Джонни Вайсмюллер, я поплыл к этой кандидатке на тот свет. Вот она уже рядом, мечется и — как будто рычит от восторга! Я уже обхватил её за талию, прижал к себе холодную грудь и руки, другой рукой вцепился в волоса и старался держать голову её над водой, а сам заработал ногами; я уходил под воду, держал дыхание, это я могу долго делать, но её тянул. Видишь ли, руки им надо сковывать, так как такие, ещё живые и в агонии, способны задушить спасателя. Неожиданно она и я стали на твердое дно /это же смех — тут была подводная коса и нам было по грудь/, и тут она как влепит мне в лоб своим маленьким кулачком. У меня заискрило в глазах.
— Вы что?! — заорал я и отпустил её волосы.
— А вы что?! — заорала она, разводя волосы от лица и отхлёбываясь.
— Я думал, вы тонете...
— Думал, думал. Просто я люблю так бултыхаться, массаж, вроде джакузи.
— А я, кстати, забыл, что здесь мель, а ведь места тут знаю отлично. Как я влип. Знаете, так хотелось вас спасать. Лучше бы вы тонули. Я специалист.
Аккуратный носик, чуть веснушчатое, очень приятное лицо, а грудь я уже почувствовал, очень хорошая грудь.
— Вы уж, наверно, этой водищи наглотались, тут же писают.
Она не девушка, молодая женщина, но сейчас что-то в ней девчачье, озорное. Стоит и ладошками по воде шлёпает.
— Ну и что? Вы сами плывете и эту воду прихлебываете, и ничего же.
Я плыл брассом, а она — на боку, загребая одной рукой.
— Вы плывете, как Чапаев, но у него-то был пулемет. А вы одна на пруду или с кем-нибудь? Одна? Это хорошо. Я тоже один.
Потом она плыла на спине. Её груди в голубом лифчике торчали из воды, словно бакены. На берегу она сразу улеглась на свое одеялко, возле камышей, я уверенно перенес свою дерюжку к ней и сел рядом. Чёрт, я разучился знакомиться. Вспомнить что-нибудь из старого, вроде никогда не подводило?
— Я вот что хотел спросить. Как вы думаете, индекс Доу-Джонса на нью-йоркской бирже упал или уже на нуле?
Она расчесывала волосы и удивленно посмотрела на меня.
— Не знаю. Но я так понимаю, что хотите таким путем начать знакомиться.
— Боже упаси, я культурный человек. А как вы думаете, второй транш Рургаза получит Черномырдин в этой декаде?
Она не выдержала и расхохоталась. Хорошо она смеялась: и глазами, и белыми зубками, и покачивалась. Вообще, она была очень хорошенькая, отлично созревшая женщина, правда, лицо несколько помятое былыми страстями, зато бюст, талия и бедра в синих трусиках, когда она выходила из воды, — я чуть не задохнулся от волнения. А синее, особенно трусики, на меня вообще действовало, как красная тряпка на быка. Я немного дальтоник.