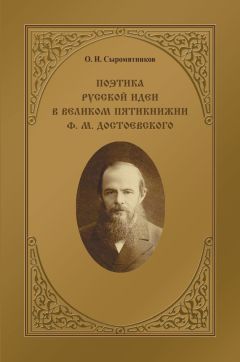О, опытная плутовка, всё она прекрасно понимала, и конечно, я ей в чём-то нравился, это ж было видно. Да хоть бы любопытен — и то. Кроме литературных разговоров я успел рассказать о своём детстве веселом как раз здесь, на берегах этого пруда, я ж из этих краев, только дачник; я помнил еще бомбовые воронки и траншеи после войны у платформы "42 километр", там, видно, стояла какая-то воинская часть, и в этих траншеях мы играли в Шерлока Холмса, только что вышедшего в переводе Чуковского, о наших детских любвях к одной девочке, из-за которой два лета подряд дрались и мирились и которая мне не дает покоя всю жизнь, точнее, память о ней.
— Боже мой, какое у вас было детство!
— Как какое? Хорошее, полуголодное, игровое, сексуально-озабоченное в разумных пределах. Фантастическое детство. Я уж столько рассказов о нем написал.
— Вы писатель, Андрей Андреич?
— Местами, — загадочно ответил я. — Вот если у нас с вами, Элен, всё хорошо получится, то я и это опишу, но очень романтично, клянусь. Радостей в жизни теперь мало, их надо собирать в шкатулку древностей.
— А что это у нас должно получиться? — сквозь зубы спросила она, и вдруг поймала овода, я взял его, всунул ему в жопку травинку, и он полетел на малых оборотах, таща за собой тяжелый груз.
— Пикирующий бомбардировщик. Во, мы так в детстве и делали. Да нет, Элен, это я так, к слову сказал — насчет "что получится".
Мы вошли в прохладный и полутемный, как склеп, магазин. На прилавках одна водка, и пластиковые пузыри с кока-колами.
Единственным продавцом был сидящий юнец с газетой.
— Глядите-ка, Элен, "алабашлы"! Был когда-то один из лучших портвейнов, и — поллитра. А теперь ноль-восемь. Демократически.
Хотя я предпочитаю водку, но в такую жару лучше уж этот портвейн, правда? Интересно, похож ли на настоящий? — я взял пару бутылок. — А еда? Что брать из еды — у них же только зубная паста и этот чортов йогурт. Может, пасты? Мальчик, два кило взвесьте...
— Да не надо еды, — сказала она, — дома всё есть, а вот лучше лимонаду для Димы, он его обожает. Дедушка тоже.
На ступеньках магазина сидела бабуля с пакетами вишни, я купил и вишни.
Мы немного прошли вдоль линии и свернули в проулок.
— Дима — это сын?
— Да, уже большой. Он очень болен, — она остановилась, закусив губу. — Может быть, не надо, Андрей Андреич?
— Ну, а где же пить будем, если уж куплено? Да я ненадолго, Элен, не думайте, я не из этих... Каплю посидим, каплю выпьем, я люблю детей и дедушек, будет общий дружеский разговор, лото. Хоть бы там было десять дедушек, я сумею вести приличный светский разговор. Да, а что с Димой? — Вы что, были замужем? А дедушка — это ваш дедушка? Или — его дедушка?
— Господи! — возвела она очи к небу. — Сколько вопросов! Какой же вы говорун!
— Да, есть такое, — согласился я, — это тоже моя болезнь. Но вы тоже — как девочка: а мама разрешит? а папа разрешит?..
Её дачка, точнее, приличный деревянный дом с участком, разделенным забором на две половины, напоминала мне ту, что сегодня снилась: веранда, видна голова рыжего дедушки, над чем-то склонившегося. Меня слегка дернуло. Надо ж... Элен велела подождать, пошла привязывать лютующего на цепи пса — зацепила его цепку на другой забор, подальше.
— Он у нас просто зверь.
Пока обходили огуречник под плёнкой и цветник с подсолнухами, Элен объяснила, что дом-то весь ихний, но она сдает половину армянам, чтоб прожить. Действительно, с той половины несло подгорелым мясом и кто-то гортанно призывал: "Ервант! Ервант! Ида сюда, куморэд кунэм!" Просторная светлая веранда с невысоким крылечком, круглый стол посредине, над ним абажур, кресло, диванчик, книжный шкаф, две двери куда-то, наверно, в кухню и жилые покои. У открытого окна-рамы сидел маленький старичок с бородкой и, как я говорил, рыженький /красится наверняка, потому что брови белые/, завернутый в легкое одеяло, он пристально, даже хищно смотрел в шахматы, устроенные на табурете возле его кресла-качалки. Как мило, по-старинному, какая прелесть.
Элен еле дозвалась шахматного дедушку, сказав, что "вот наш гость — Андрей Андреич, познакомились на пляже, очень воспитанный человек и меня спасал, я тонула". Она-то это с юмором, а дед перепугался:
— Что, действительно? И — как же, Леночка?
— Да нет, я шутила, а он подумал...— засмеялась она. — Это мой дедушка, а Димин прадедушка.
Тот сунул мне сухую крошечную ладошку и сообщил удивительно тоненьким голоском, словно василёк в поле /у него и глаза были васильковые/:
— Иван Савельич. Прошу помнить.
Элен подмигнула мне и слегка похлопала себя по темечку: мол...
Я выгрузил покупки из её сумочки на стол. Элен вдруг вспомнила:
— Ой, Андрей Андреич, вам же надо ноги помыть. Я сейчас воды принесу, а вы садитесь в это или в то кресло.
Кресла были плетеные. Старина. Как ещё живы-то. Дедушка с ужасом смотрел на мои грязные ноги. Он плоховато слышал и видел, но ноги мои углядел и стал думать. Впрочем, внимание его тут же переключилось на шахматы: он решал какой-то этюд или играл сам с собою, не знаю, но я придвинулся к нему, пряча ноги под кресло, и полюбопытствовал, показывая тонкое знание шахмат:
— Это не этюд Кереса 1948 года?
— Н-нет. А вы его знали?
— Я всех знал. Нимцович. Тарраш. Этот особенный. Мой папаша у него выиграл на семнадцатой доске. А что делать — он же был в цугцванге.
Он вылупил глаза на меня! Он так обрадовался! В это время Элен принесла воду в тазике, и я мыл ноги, продолжая потрясать Ивана Савельича.
— Видите, Андрей Андреич, тут оч-чень сложная штука: ферзь берется при шахе белой пешкой.
— А если за два хода до этого сделать так, то есть переиграйте: слон идёт сюда, конь — сюда, и белой пешке некуда идти. Так?
— Н-ну, вы — корифей! У вас разряд или вы мастер?
— Да что вы, — рассмеялся я, — так... игрывал когда-то... больше под банкой в Парке Горького, там был Шахклуб и всякие идиоты... ой, простите!
Элен сидела за столом, сложив голову в руки, спина её вздрагивала.
— А вот, знаете ли, я могу вас научить уникальной игре, игра просто историческая, даже мистическая.. Хотите? /Он загорелся и стал расставлять фигуры заново./ Что там "испанская партия", "индийская защита", "Кароканн" — это всё для детей. Партия называется "Трубы Навина". Был такой у древних евреев начальник Иисус Навин. А придумал игру царь Соломон и всех царей мира обыгрывал.
— Ну-те, ну-те, — заторопился д
едушка, — это интригует, я все партии знаю, все защиты, но такого не слыхал, а вы-то откуда ее узнали?
— Одно время лежал в психушке, в психосоматике, так один больной и научил, а он вычитал ее где-то в апокрифах.
— Вы лежали в сумасшедшем доме?!
— А что такого. Я там сон лечил. В неврозах. Это я пошутил насчёт психосоматики. Там Зыкина лежала. Ну-с, начинаем... Я, конечно, помню лишь ходов десять, но дальше всё пойдёт само собой. Агрессивней партии я не встречал, Иван Савельич. Во-первых, вот эти пешки белых — а трубят в трубы Навина белые /он всех устрашал именно жуткими звуками труб, длинных, вроде зурны, что ли, и выли они тысячами — представляете! да ещё на рассвете, когда все спят/, да, так трубят белые, и пешки открывают слонов — кинжальный огонь по флангам... Так, затем размен пешек левого фланга, открытие ладей... Правый фланг — та же история. Ладья на ладью, конь на коня. Ферзь вылетает на поле Н-5. Это же Ливан, Вьетнам, Ирак, Сербия! Правда?
— Да-да-да.... — дадакал дедушка, даже притоптывая сандаликами. Мне Элен дала тряпку вытереть ноги и пушистые шлепанцы. — А вдруг я в них домой уйду, а? — пошутил я.
— Идите, — равнодушно пошутила и она, а сама открыла бутылку, разлила портвейн по стаканам и показала на печенье. Мы выпили.
Кстати, только теперь я заметил, что она переоделась: шёлковые брюки, туфельки на высоком каблуке /ах, какие сексуальные!/ и длинная кофточка-распашонка. Нарочно, что ли, но бюст её возвысился ещё более красноречиво. Словом, это был мёд, мёд!
Я продолжил городить на доске ужасающую чепуху, дедушка пытался усвоить логику, но я, как, горячечный больной, шептал: "Никакой логики... это нельзя ничем объяснить, только напор, напор а ещё раз напор..." — "Но у вас же почти не осталось фигур..." — "А вот вы, если запомнили, снова начните, но ведите линию белых, то есть Навина, — конечно, осторожно,— и вы увидите, какая будет блистательная победа!" Я выпил ещё целый стакан и откинулся в кресле. Элен смотрела на меня с гордостью и благодарностью: