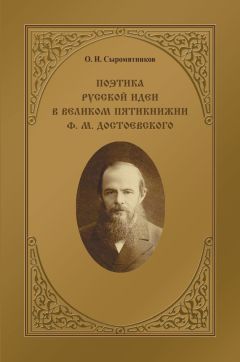— Не знаю. Но я так понимаю, что хотите таким путем начать знакомиться.
— Боже упаси, я культурный человек. А как вы думаете, второй транш Рургаза получит Черномырдин в этой декаде?
Она не выдержала и расхохоталась. Хорошо она смеялась: и глазами, и белыми зубками, и покачивалась. Вообще, она была очень хорошенькая, отлично созревшая женщина, правда, лицо несколько помятое былыми страстями, зато бюст, талия и бедра в синих трусиках, когда она выходила из воды, — я чуть не задохнулся от волнения. А синее, особенно трусики, на меня вообще действовало, как красная тряпка на быка. Я немного дальтоник.
— Так, всё же — что с Рургазом?
— Вы какой-то ненормальный.
Она легла на свою роскошную грудь и уткнулась лицом в платье. — Нормальный, нормальный... Просто время такое, попугайный язык у всех, нет-нет, да заносит. А меня зовут Андрюша, а вас?
— Андрюша, — улыбнулась она в платье. — Вы ж седой, а всё Андрюша.
— Ну, если вы так! — рассердился я. — То — Андрей Андреич. Громыко. Внук, между прочим. Мы все, с шестнадцатого века, Андреи Андреичи. Можно проще называть, если хотите — Андрэ.
Она села и долго рассматривала меня, почесывая ляжки.
— Знаете, я не люблю вот так...
— Как?
— Ну вот так сразу: он и Громыко, он и Андрэ. Только из воды вылезли и вы меня, как девочку кадрите.
— Но, птичка моя, вы так хороши... — это я почти пропел. — Ну что мне делать, клянусь вам честным, благородным, дворянским словом, если вы меня сразили. И потом одиночество, я ведь незамужем, сирота, и вот явилось существо...
— Сирота. Смешной вы, ей Богу. Ну хорошо, меня зовут Елена Андреевна.
— О, да мы тезки по отчеству! Это что-то значит, это... /Я не знал, что бы ещё соврать поостроумней./ Вы где-то рядом живете? В Кратове, да? — я уже понахальнее вязал кружево знакомства, даже развалился лицом к солнцу, только трусы положил на глаза. Свои, конечно. Кстати, рядом были её босоножки, они добавочно возбуждали меня. Нога женская в босоножке или туфельке — это совсем другая нога, чем просто голая. А в чулке — так ещё 30% либидо.
— Вам, наверно, лет двадцать восемь?
— Что, похоже?
— Очень. Вы так милы, так даже, я бы сказал, юны... У вас тело Венеры. Впрочем, Венера была зрелая женщина, рожавшая.
— Я тоже рожавшая.
— Что вы говорите? Не похоже.
В общем, пока что я очень развеселил её, мы даже сели на её одеялко рядом, спинами к солнцу, и стали беседовать. Я не очень нажимал, я подкрадывался все-таки: она была какая-то несовременная женщина, со старыми взглядами и правилами ухаживания, а это было особенно приятно.
Какой-то мерзкий пундель с ушами до земли то и дело пробегал по нашей подстилке и, подлец, встряхивался после купания прямо на нас.
Когда же спины наши стало основательно жечь послеполуденное солнце, я предложил:
— А давайте опять туда сплаваем, где вы только что безумствовали, и побезумствуем вместе. Жарко.
Она охотно согласилась, и мы /уже держась за руки, как мальчик с девочкой/ сбежали по корням сосен в зеленую воду и бешено поплыли.
Так и хотелось, как в детстве, сказать: "Давайте дружить."
— А правда, что я плыву, как Джонни Вайсмюллер?
— Кто это?
— Друг моего детства. Фильм "Тарзан", взятый в качества трофея нашими войсками в Германии и показанный дедушкой Сталиным в 1951-ом году. Ха-ха-ха! — хохотал я, как Шерлок Холмс, в очередной раз разыгравший доктора Ватсона. — Между прочим, Элен, пятикратный чемпион олимпийских игр и изобретатель вот этого самого "кроля", каким я плыву. Элен, а давайте я буду снова вас спасать.
— Нет уж! Вы наврали, вы просто меня лапали.
— Ноу, нихът, я вас спасаль, фрау Элеонора!
Я заныривал, хватал её за ноги, она орала, как зарезанная.
На берегу мы немножко вздремнули. Её рука лежала на сумочке. Я вдруг вспомнил старинную песенку, которую мы так любили в детстве:
Пошла я раз купаться,
За мной следил бандит,
Я стала раздеваться,
А он мне говорит...
Я проснулся быстро, долго любовался то ею, спавшей крестом, то утомленно-синим небом с розовым перышком облачка на закате. Потом стало скучно, так хотелось ей спеть эту песенку, и я снова уснул, и крепко. Мне приснился дождь, ночной дачный проезд, мы крадемся по нему с Еленой Андреевной, сплетшись в объятиях, и вдруг попадаем в огонь открытого окна веранды, где за самоваром сидит бородатый старик с изможденным лицом, в очках, он читает вслух страшную книгу, он каркает, но увидев нас, снимает очки и манит нас зайти к нему. Мы входим, мокрые, перепуганные, дрожащие, а он нам показывает большим пальцем назад, в глубину, в комнаты и сам идёт за нами, захлопывая все двери, а потом включает что-то и в глаза нам вонзается такой резкий, яркий свет фонарика или гиперболоида, что у нас стало останавливаться сердце, мы хватались за грудь и умоляли, умоляли, падали на колени...
Господи! Оказывается, мы уже были в тени сосен, и солнце пробило окошко сквозь хвою и било мне прямо в глаз. Она тоже проснулась и протирала глаза.
— Элен, что приснилось — это ужас! — и я рассказал сон. — Этот старик с лучом — что-то очень нехорошее, правда?
— Ой, мне тоже старик приснился. Зачем-то предложил играть в карты.
— Что-то нас ждет общее, Элен. Ей-ей. У обоих зловещие старики.
Уже чуть растревоженные, мы пошли купнуться в последний раз. И опять лежали, и её грудь и ляжки не давали мне покоя. Что же делать дальше?
— Элен, я больше не могу, на меня долгий пляж действует разлагающе. Да и время уже шестой час.
— И что же вы предлагаете? — она сощурила свои милые женские глазки. Да-да, нынче у многих женщин глаза мужчин, а у неё именно женские. Она сделала губки гузкой и красила их, размяла и провела язычком. Я глядел, как волк, и она шаловливо махнула ручкой на меня: мол, что ты так смотришь, нахал. Расчесала волосы, пустив их сзади свободно. Немного не по возрасту, но теперь все молодятся, кому и не нужно. Рыжая! Это то, что я обожаю. Рыжая женщина всегда загадка, а в любви, я уверен, просто дьявол.
Она уже складывала все своё в шёлковую сумочку, я попросил туда же сунуть и мою дерюжку с полотенцем. Она удивленно вскинула брови:
— Мы разве идем вместе?
— Конечно, Элен, мы ж накупались, напрыгались, устали, правда? Ну и хорошо бы где-нибудь посидеть за чашкой чая. Например, у вас. Вы далеко живете?
— На той стороне, — усмехнулась. — Но у меня семья, я так просто с улицы не приглашаю.
— Ну Эле-ен, ну как же... Я полюбил вас, — трахнул я, — вы какая-то... нездешняя. Мы же так прыгали... мы подружились, ведь правда, да, ведь правда?
— "Подружились". Легкий вы человек, Андрей Андреевич. А если я замужем?
— Ни в коем случае, я это по глазам вижу. Ребёнок у вас есть, это так, но мужа нет.
— Вы ясновидящий?
— Немножко есть. Скорее — опытный. Я старый и молодой одновременно. Если б вы знали, сколько жизней я прожил... Да, был женат. Но теперь сирота. И я не ловелас, не думайте, я — чистый, простой и нежный. Как у Блока: "Я и молод, и свеж, и влюблён".
— Да-а, вы мастер завязывать знакомства, — иронично, но уже с ноткой согласия сказала она. И мы пошли потихоньку вдоль берега, болтая о том о сём. На ней было свободное розовое платье, икрастые ножки в легких туфлях-лодочках ступали чуть по-утиному, я обожаю это. Я тоже был неплох в сиреневой рубашке и белых брючках, по-моему, форсистых, да ещё шёл босиком. За городом я всегда хожу босиком.
— А вы Блока любите? — мне о литературе легче всего говорить.
— Я люблю Цветаеву.
— Тоже ничего. Ненормальная баба. Как, впрочем, все поэтессы.
Мы долго шли вдоль береговых дачных заборов, за которыми раньше сдавалось на лето самое дорогое жилье, не знаю как теперь, и наконец вышли к станции. Тут был переезд, и на той стороне новый, похожий на завод продуктовый магазин. Его переделали из старенького уютного универмага, где когда-то кипела жизнь и продавалась и одежда, и еда, и вино. С тех пор я в нем не бывал. "ТОО НАТАЛИ". Я предложил купить винца и у неё дома выпить — за дружбу.
— Как это — вас к себе домой? Я ж вас не знаю, — удивилась она.
О, опытная плутовка, всё она прекрасно понимала, и конечно, я ей в чём-то нравился, это ж было видно. Да хоть бы любопытен — и то. Кроме литературных разговоров я успел рассказать о своём детстве веселом как раз здесь, на берегах этого пруда, я ж из этих краев, только дачник; я помнил еще бомбовые воронки и траншеи после войны у платформы "42 километр", там, видно, стояла какая-то воинская часть, и в этих траншеях мы играли в Шерлока Холмса, только что вышедшего в переводе Чуковского, о наших детских любвях к одной девочке, из-за которой два лета подряд дрались и мирились и которая мне не дает покоя всю жизнь, точнее, память о ней.