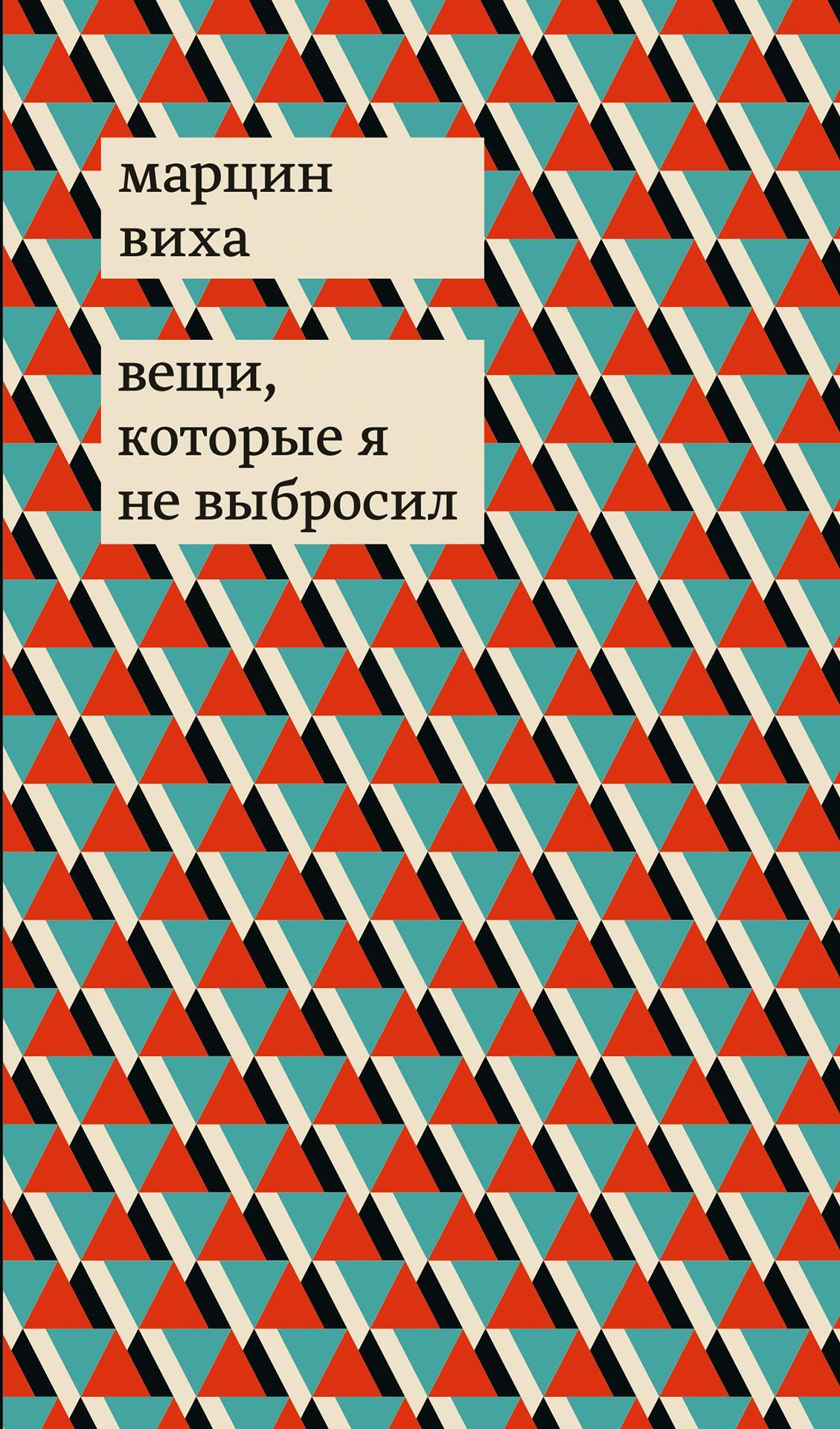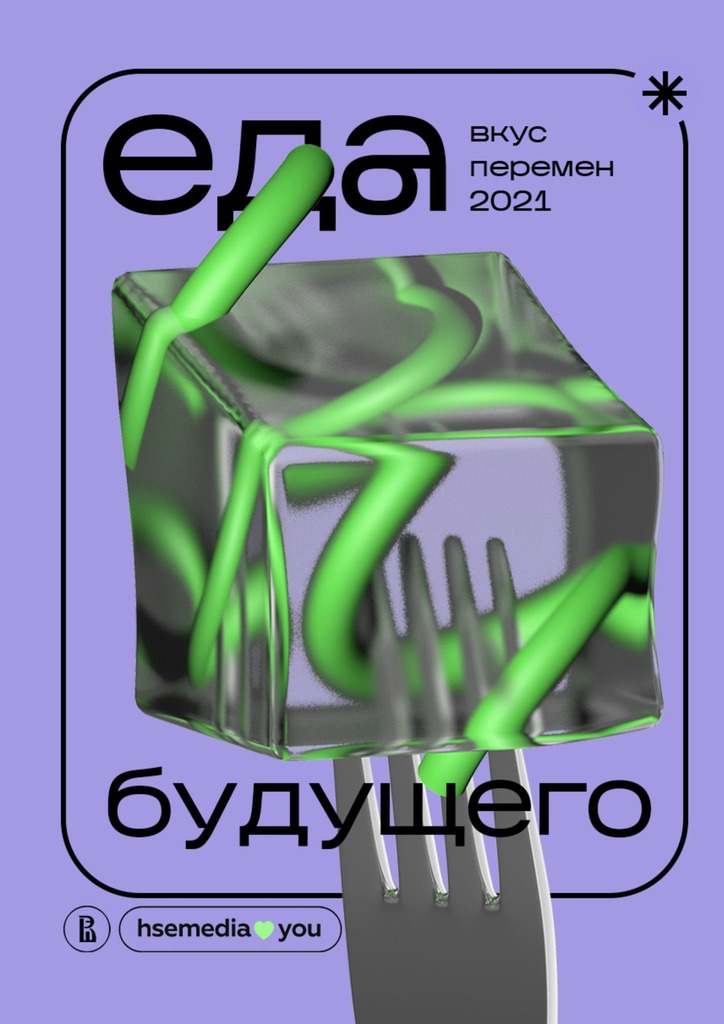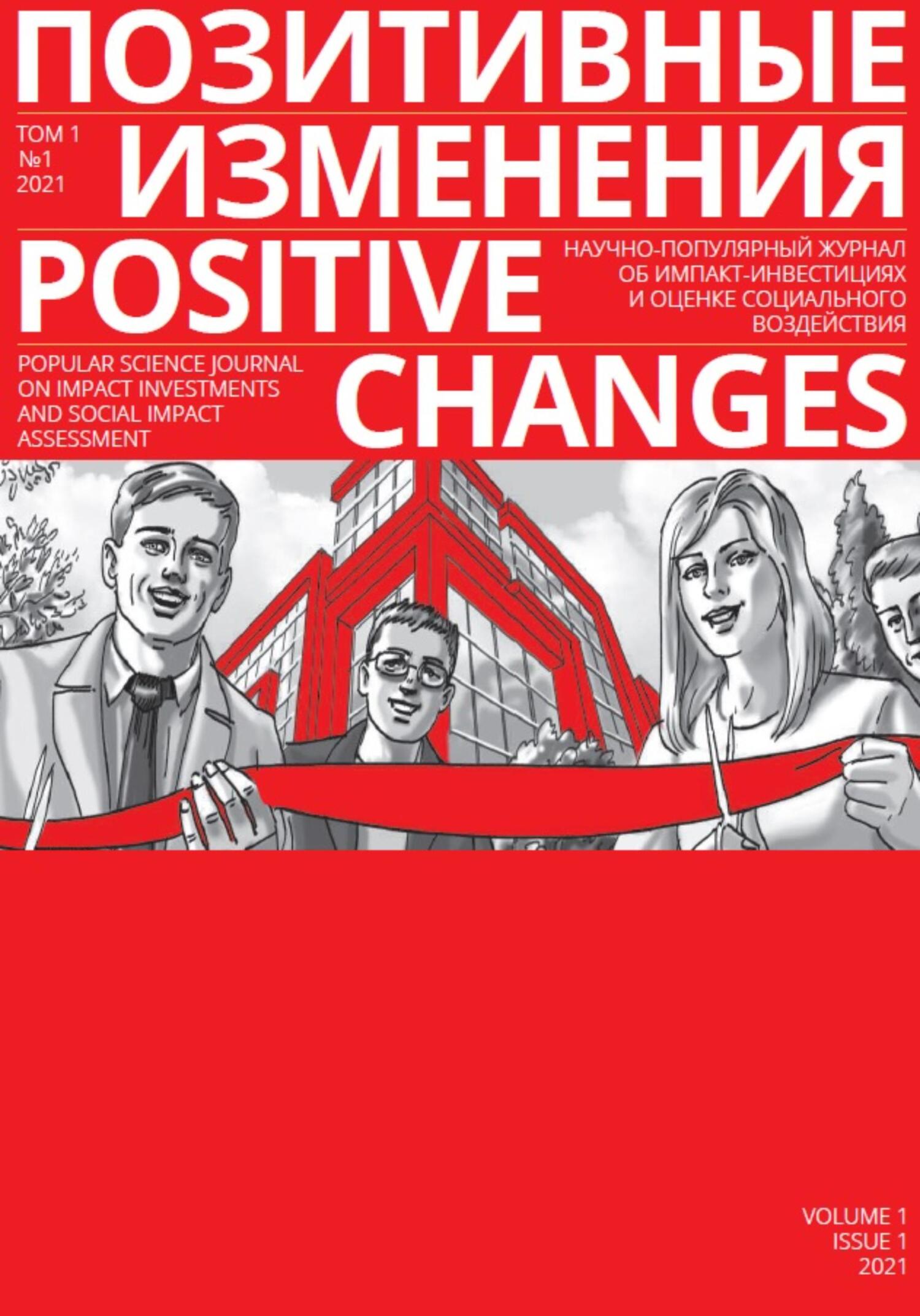как по маслу. Что его побудило рассказать о «маленьких жидовочках» в присутствии моей матери? Он тут же об этом пожалел. Мать разнесла мерзавца – разнесла публично, в пух и прах – в фойе дома отдыха для архитекторов. Сводчатый потолок еще долго отзывался эхом его жалоб:
– Да что же в этом обидного? А как еще сказать, что жидовочка небольшого роста?
Так мама оскорбляла слух достойных матрон. Рычала на учительниц. Ставила на место продавцов. Велела молчать таксистам-антисемитам. Не реагировала на наше:
– Зачем ты это делаешь?
Она рвалась в бой, как уязвленный семитский носорог. Разозлившийся денотат непроизносимого существительного. Наглая Старая Жидовка.
– Мама, хватит, пойдем отсюда, оставь, еще пойдут разговоры.
* * *
У нее было множество недостатков, у моей матери. Она была, как говорят, непростым человеком. Как дополнительное задание на пять с плюсом. Как кроссворд в субботнем выпуске газеты. Друзья утверждают, что она резала в глаза правду-матку. Иногда резала, а иногда нет. Но одно можно сказать точно: если уж она хотела что-то сказать, никто не мог ее утихомирить.
Потом слово стало появляться. Сначала медленно, осторожно. В городке К. открыли мемориальную доску.
Иногда приезжали заграничные экскурсии – наша экономика нуждалась в валюте. Группы высаживались из блестящих автобусов. Туристы ходили. Заглядывали. Могли возникнуть какие-то вопросы.
Так что в 1983-м появилась доска. Ее установили у черного входа в кинотеатр, там, куда механик выходил покурить (изнутри доносились приглушенные диалоги и шум проектора).
А где ее должны были повесить? Спереди висел репертуар. Перевешивать его – как-то глупо. Разместить доску рядом? Как же так? Тут жертвы фашизма, а там – «Чингачгук – Большой Змей» (произв. ГДР, без возрастных ограничений).
Ну и повесили сзади. В тексте – представляю, сколько времени заняло утверждение соответствующей формулировки – речь о бывших жителях. «Бывших» – будто говорилось об отставке. Будто кто-то уволил их с должности жителя.
Памяти трех тысяч польских граждан еврейского происхождения, бывших жителей, уничтоженных гитлеровскими оккупантами во время Второй мировой войны.
Любопытно, каменщику платили побуквенно?
Прилагательные длиннее существительных. И все это предложение было длинным, как жердь. Бамбуковая удочка. Механическая рука с множеством суставов, дополнений и определений – только бы держать это слово как можно дальше.
Столько букв. Столько слоев. И только в конце болтался этот… Кто? Житель. Бывший житель и бывший оккупант. Говорят, было время, когда эти двое не ладили.
То другое – недопустимое – существительное было бы как клякса. Краска, которую кто-то плеснул на белокаменную стену. На стену кинотеатра. Бывшей синагоги.
С годами в нашу жизнь вошли клезмерские (85) концерты. Рестораны с мацовыми клецками. Лотки и прилавки. Косметика с минералами Мертвого моря. Картины маслом (разноцветные дома и черные пятна капот (86)). А также фигурки еврея с денежкой. Еврея со скрипкой. Еврея с ведром. Смущение миновало. И все имели свою долю в прибыли.
За исключением бывших, разумеется.
Времена идеального телевидения. Без пультов. Может, где-то в Америке они и были, но до нас не дошли. Только в каком-то детективном романе переводчик проявил находчивость, и скучающие гангстеры щелкали «лентяем».
Иногда руководство телеканалов решало осчастливить зрителей фильмом Диснея или Чаплина. С Чарли не соскучишься.
Однажды на праздники показали «Великого диктатора» (1940): два креста на красных флагах. Тиран и двойник тирана. Добродушный цирюльник. Танец с глобусом. Возвышенная речь на фоне восходящего солнца.
Из всего этого самое сильное впечатление на меня произвел один кадр.
Конечно же, я знал, что это всего лишь декорации, построенные в каком-то голливудском павильоне. Неважно. Они могли там литрами пить апельсиновый сок и глушить виски, ездить на «шевроле», лабать джаз, носить темные очки – но пейзаж после погрома они воссоздали на пять с плюсом.
Кровь. Выбитое стекло. Перья. Разбросанные вещи. И витрины, забитые досками. На них буквы – белой известкой – JEW. Я произносил по звукам – нечто между стоном и зевком. Потом я подумал, что это шифр. Подмена букв. Как в «Космической одиссее»: IBM, закодированная в названии компьютера HAL (87).
Европейский пейзаж. Рассвет после Хрустальной ночи. Кто придумал это название? Снежная королева? Кай, Кай, где брат твой, Авель?
Потом я обнаружил такой рисунок в альбоме с русской живописью. Улица. Какой-то человек прильнул к тротуару, прижался к земле. Замечает желтые стены. Всё в перьях и крови. Стекла немного. Быть может, стекло – украшение богатых и цивилизованных городов на Западе. Быть может, отсюда эта иллюзия, что в стеклянных домах никто не бросает камни.
Я тоже немедленно нарисовал такую картинку. Моя изображала пустую улицу (это избавило меня от необходимости рисовать людей). Стены домов с кирпичными заплатами. Доски. Какую-то тачку.
Из фильма я позаимствовал общий настрой, детали же разработал на основе тщательных наблюдений: воссоздал вход в ближайший овощной, с пирамидой пустых коробок, облупленным дверным косяком и т. д. Попал в десятку – в этой сырой норе, где мы покупали квашеную капусту и картошку, до войны была кошерная мясная лавка.
В конце я вывел надписи «JEW», «JEW», «JEW» и подарил рисунок маме. Я всегда знал, как ее обрадовать.
Я знавал многих виртуозов молчания, но только одна моя тетка достигла истинных вершин мастерства. Определение «тетка» не переда-вало сути – родственные связи были далекими, путаными, порой тонкими, как нитка. А может, их и не было вовсе. Почетный титул полагался человеку, знакомство с которым завязалось до войны. Каждый, кто помнил, становился моей матери родным.
Специалистка по камуфляжу, крашеная блондинка. Она не выглядела на свои годы.
После войны замела следы. Крестилась. Стала католичкой. Стала протестанткой. Стала вегетарианкой (тогда еще говорили «отказалась от мяса»). Ходила в православную церковь. Уехала на другой конец Польши. Куда-то в горы. На море. На «возвращенные земли» (88). Не знаю, но даже сейчас мне кажется, что я говорю слишком много, совершаю непростительное предательство.
Почетная тетка была неутомима. Колесила по всей Европе. Иногда навещала мою мать.
Однажды остановилась у нас на несколько часов. Отец должен был отвезти ее в аэропорт. По телевизору как раз передавали мюзикл «Хелло, Долли!». Она специально выбрала такой поезд, чтобы успеть посмотреть «Хелло, Долли!». Сидела перед телевизором. Что-то бубнила, но не спускала глаз с Барбры Стрейзанд.
– Какая классная, – приговаривала она. – Ну какая же она здоровская, а?
Барбра была ее победой. Заменяла ей триумф израильского оружия, установок для опреснения морской воды, апельсиновых рощ в Яффе и тракторных заводов.
Думаю, только с