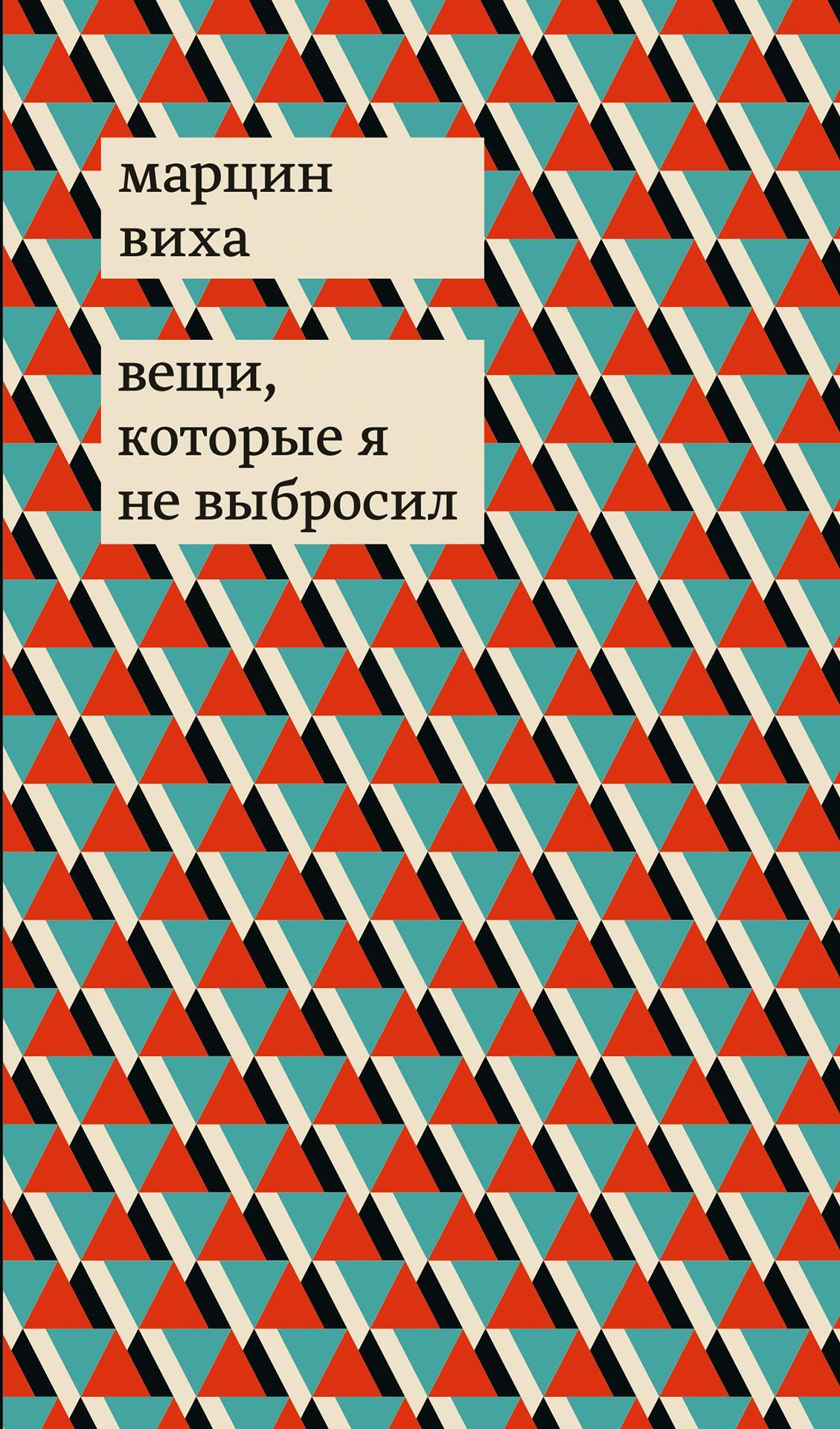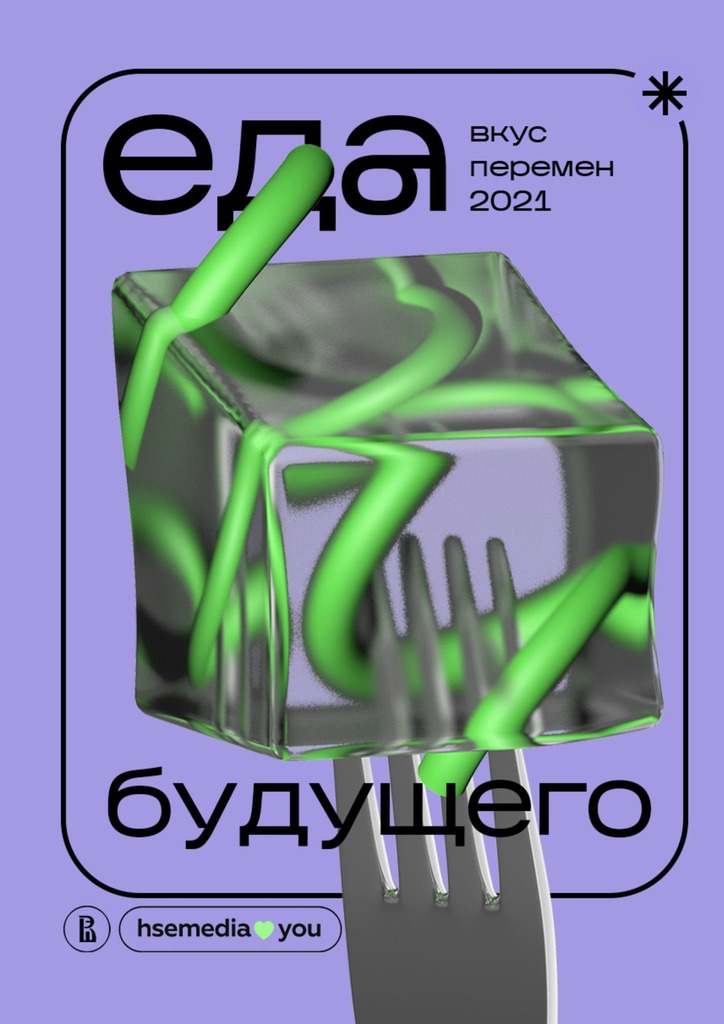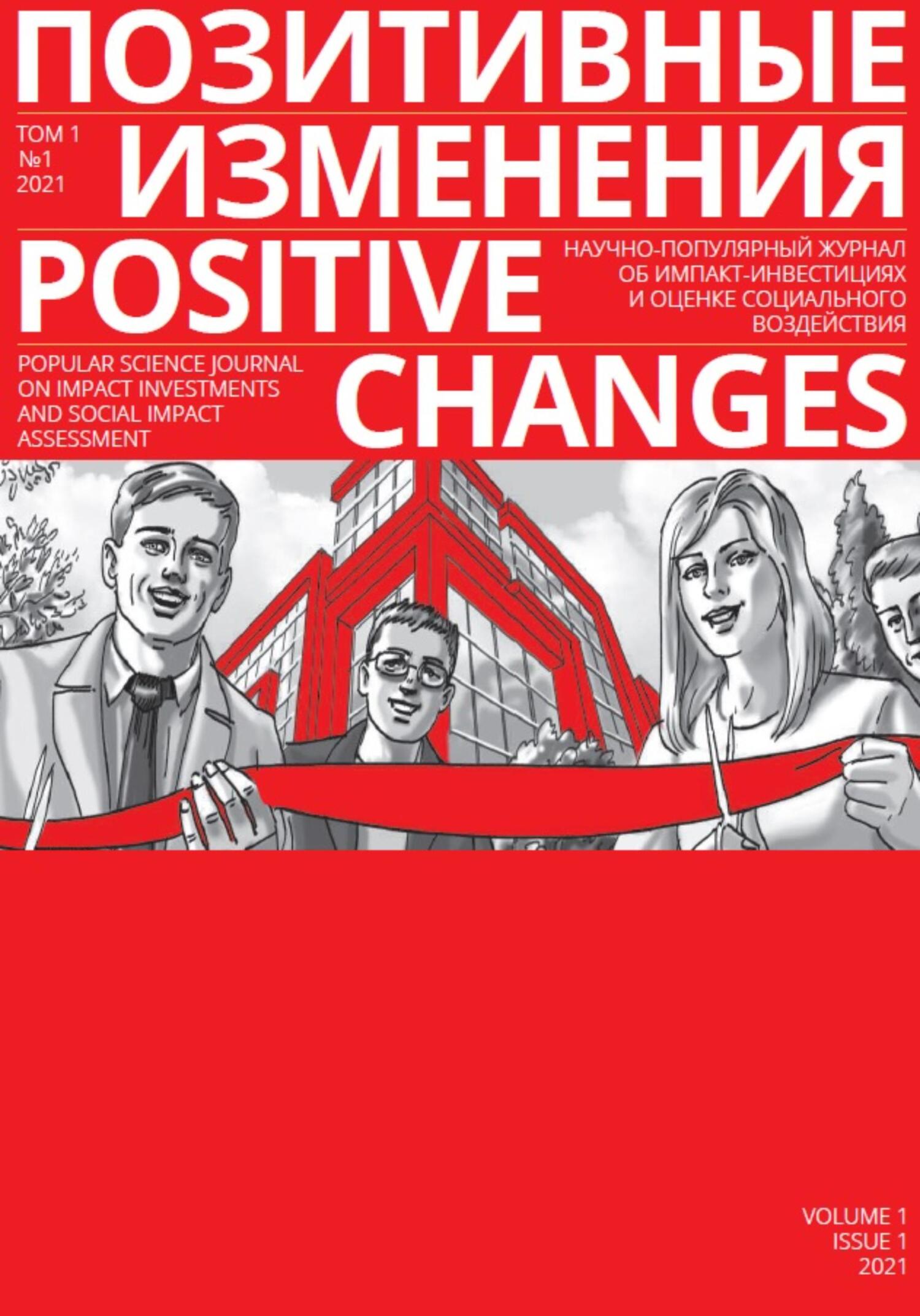запрятанной на дно ящика. Возможно, их нужно у кого-нибудь попросить.
– Сестра, у вас есть оранжевый листок? Мне понадобится оранжевая бумага.
Возможно, листки должны быть красными, но на таких трудно было бы разобрать буквы.
Врач кладет бумагу в принтер. Слушает, как головка выплевывает буквы. Конец строки. Скрежет. Всё сначала. Буква за буквой. Ткацкий челнок.
Потом оранжевый листок кочует из рук в руки. Много белых и этот – единственный среди них. Шипит от прикосновения. Обжигает пальцы медсестер. Попадает к нам.
Вдруг мама начинает говорить. Рассказывает, что ее отец застрелился.
– Я никогда тебе не говорила. Меня не было дома. Они приехали в школу и сообщили. Никогда. Я не знала, как тебе об этом сказать. Впрочем, уж ты-то и сам мог догадаться. Потом я стала хуже учиться. Все вдруг сделалось каким-то трудным. Я ничего не понимала, но мне по-прежнему ставили хорошие оценки. Ставили хорошие оценки, потому что мой папа умер.
Потом добавляет, что коммунисты были разными. Что на самом деле они никогда не доверяли ее отцу. Подозревали, что он второго сорта. Что это всегда чувствовалось.
– Перестань, – говорю я и добавляю: – Может, как-нибудь выкарабкаешься.
– Правда? – спрашивает она.
Это было как забытое казенное письмо. Конверт, брошенный в ящик письменного стола. Формальность, о которой никто не предупредил. Другие как-то помнили, платили, собирали подтверждения. У нас набегали проценты на невыплаченную сумму долга. Пени.
Но да, конечно, я знал. Пожалуй, всегда знал. С того дня, когда увидел фотографии с похорон. В конверте с розовым штемпелем информационного агентства.
На фото – бабушка с обоими детьми. Поначалу я их не узнал. Бабушка стояла как-то странно, вполоборота. У нее был испуганный вид. И у детей. И у мамы.
В ней всегда это было. Теперь она тоже сидит вполоборота, в углу дивана.
– Может, ты выкарабкаешься, – повторяю я.
– Ты так думаешь? – спрашивает она слишком поспешно.
Думаю, она боялась.
– Одного ребенка я как-то спрячу. С двумя не справилась бы.
Она строила геометрические фантазии, в которые включала поезд, перрон, узелок со скудными пожитками, силу рук и натиск толпы. Толпа напирает, объятия ослабевают, толпа напирает и разделяет ее с гипотетическим вторым ребенком. Или со мной. И все – черно-белое, как самые знаменитые кадры польской киношколы.
Страхи моей мамы были динамичными. Их вызывали спешка, потасовка и хаос. Неизбежность принятия решения, выбора, ошибок, за которые впоследствии придется платить.
Статичных страхов у нее не было. В ее страхах – по крайней мере, тех, о которых она рассказывала, – не находилось места тайникам, шкафам, чердакам и неглубоким подвалам.
Оба дедушки моей мамы и ее дядя, которых она никогда не знала, закончили жизнь в каком-то бункере. А может, в подворотне, во дворе или на улице.
Может, сами вышли. Флаги. Выстрелы. Решили, что уже всё. Каждый может ошибиться. После войны бабушка искала следы. Нашла достаточно для того, чтобы оставить поиски и больше никогда к ним не возвращаться.
Они просто исчезли в то лето. Все трое. Еще пара месяцев, и можно было бы говорить о чудовищном невезении – так долго им удавалось и – нате, перед самым концом… Но нет. Они исчезли за полгода до освобождения, а вместе с ними – полгорода. Ничего необычного.
Под конец жизни мама позаботилась о том, чтобы исчезновение зафиксировали в центральном архиве пропавших без вести.
Заполнила анкеты на чужом языке. Обеспечила им даже приблизительную дату смерти – 1 августа 1944 года (91) – словно хотела как-то связать их, мертвых и незнакомых, с повязками, баррикадами, бравурными песнями, со всем, что их не коснулось. Они стали ложкой дегтя в патриотическом повествовании. Зачем это ворошить? Страхи моей мамы не имели ничего общего с бункером. И с уличными боями. Они были связаны с лихорадочным бегством.
Последний поезд. Всегда последний поезд, как будто не было других. Последнее место в списке. Последняя фамилия, из жалости вписанная в самом низу. Поехали с нами. Нет, лучше останься. У нас есть еще одно место. У нас нет места. Как-нибудь еще. Останься с родителями. Давайте, давайте, поторопитесь.
* * *
Она была тревожна. Сообщения в газете, фамилии в списке, сло́ва, услышанного по радио, было достаточно, чтобы она оцепенела.
Зато она умела пугать. Считала страх основным инструментом воспитания. Пожалуй, так и есть.
После ее смерти я нашел золотую монету. Для шмальцовника (92).
Однажды мама принимает слишком много морфина. Когда мы ее находим, она деловито сообщает: «Инсульта нет, переломов тоже». И добавляет: «Ну да, нужно в больницу». А потом вдруг говорит: «Yes».
– Yes.
– Что?
– Yes, yes.
– Почему ты говоришь по-английски?
– Body language.
– Что – «body language»?
– Тише. Yes.
– Дать тебе воды? Ты под кайфом.
– Yes.
– Еще?
– Yes.
– Почему ты хочешь говорить по-английски? Ты же не знаешь английского.
– Body language.
– Но почему?
– Тихо!.. Как долго нас подслушивали?
– Нас не подслушивали.
– Айфон подслушивал. Они уже знают.
– Не бери в голову.
– За нами уже едут?
– Это не запрещено.
– Yes!
В машине «скорой помощи» не нужно пристегивать ремни. Логично – ведь худшее уже произошло.
– Вы – член семьи?
– Да, у меня есть медицинская документация.
– Оставьте у себя. Кто-нибудь посмотрит.
Та часть больницы, куда подъезжают машины «скорой помощи», напоминает подсобку супермаркета. Подъезд для грузовиков, доставляющих товары.
За стойкой – женщина в белом халате. Принимает поставку. Смотрит в бумаги.
– Домашний хоспис? Их сегодня пачками привозят.
Мужики в красных комбинезонах переминаются с ноги на ногу. Врачиха замирает, становится неподвижной, как ящерица. Нет мест. Она ничего не может сделать. Ничем не может помочь.
Красные не собираются отступать. На дворе – теплая ночь. Они не намерены провести ее, курсируя от больницы к больнице с левым грузом.
Завязывается дискуссия. Красный говорит что-то о больнице и уровне референтности. Врачиха требует ее не учить.
В принципе, я мог бы ее знать. У нас могли быть общие знакомые. Мы могли бывать в одних и тех же местах. Она может быть чьей-то сестрой, кузиной, подругой.
Сейчас я подам голос, она заметит мое присутствие, а горизонтальное нечто на носилках – выпуклость, накрытая бежевым одеялом, пресловутая проблема, – окажется человеком.
Мама всю жизнь меня этому учила. Натаскивала. И вот он – тот самый момент, та самая минута. Я должен попробовать. Моя верная речь, я тебе что-то там подставлял (93) – не помню что – давай, помоги мне теперь, когда я нуждаюсь в тебе.
Где-то я читал, что нужно смотреть в глаза… Или наоборот, нельзя смотреть в глаза.