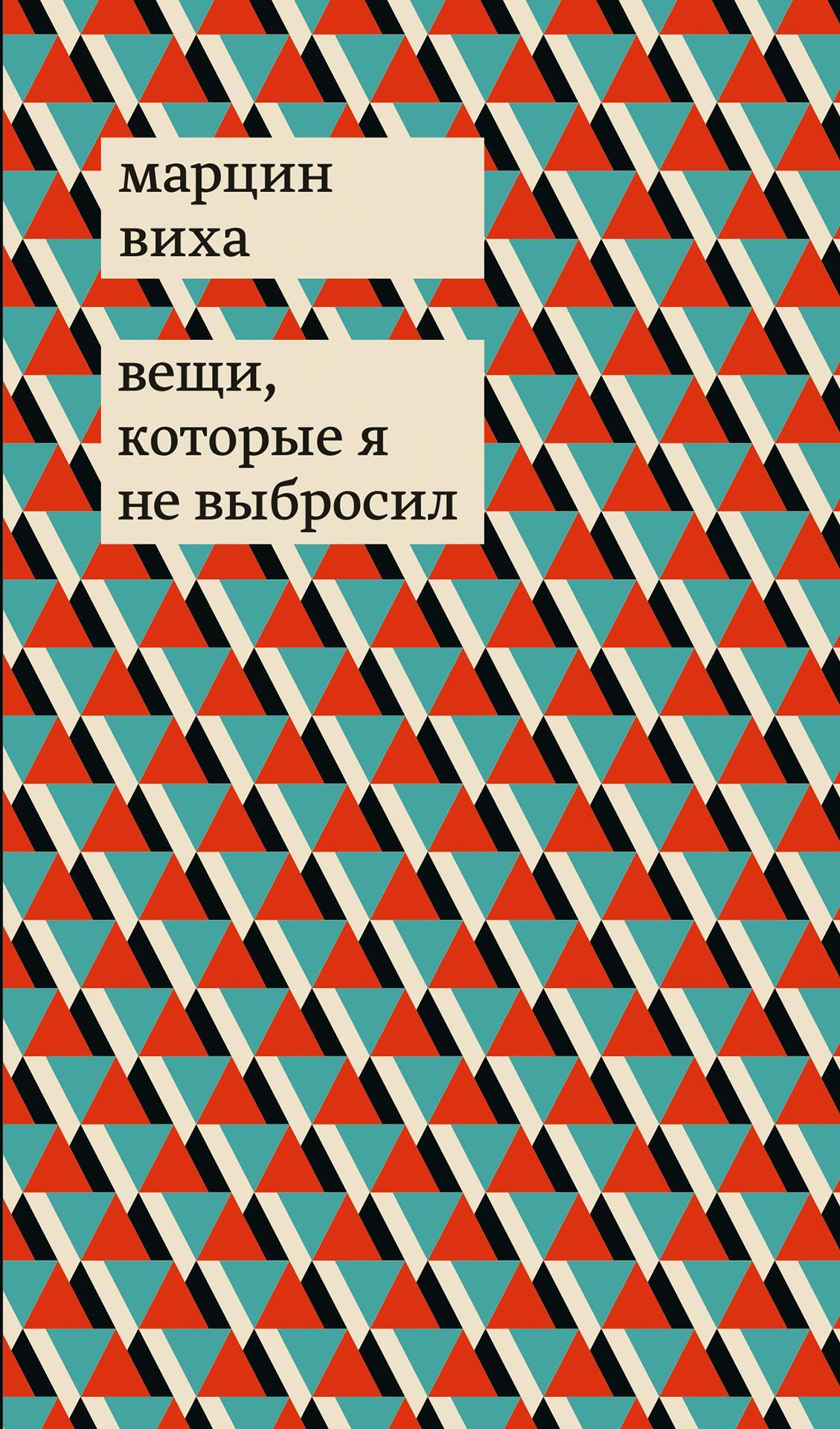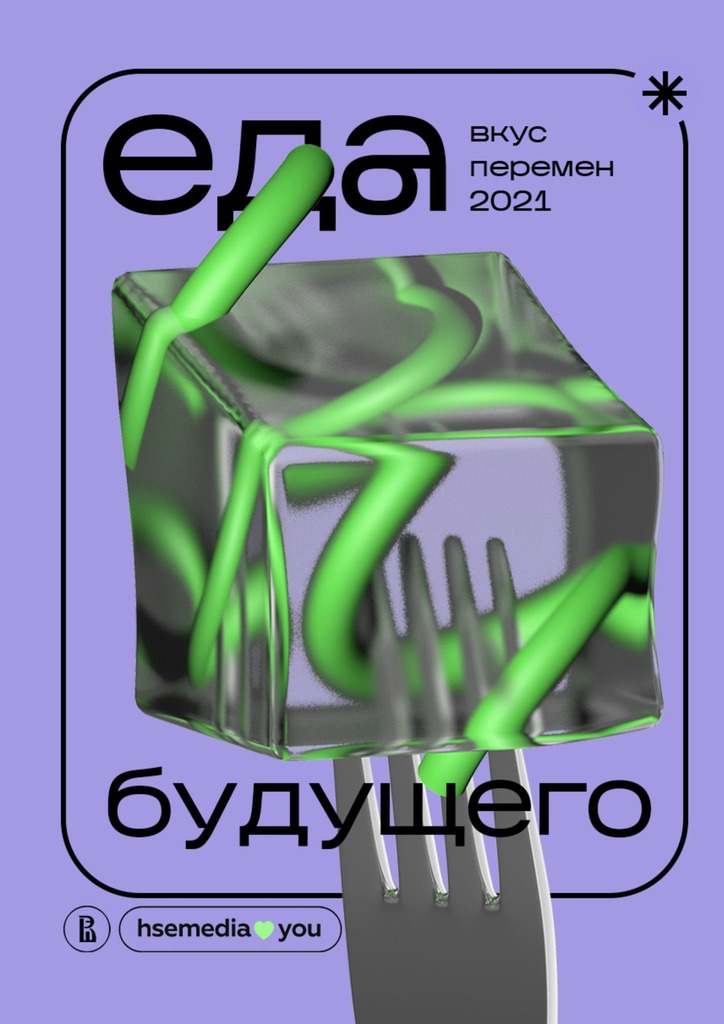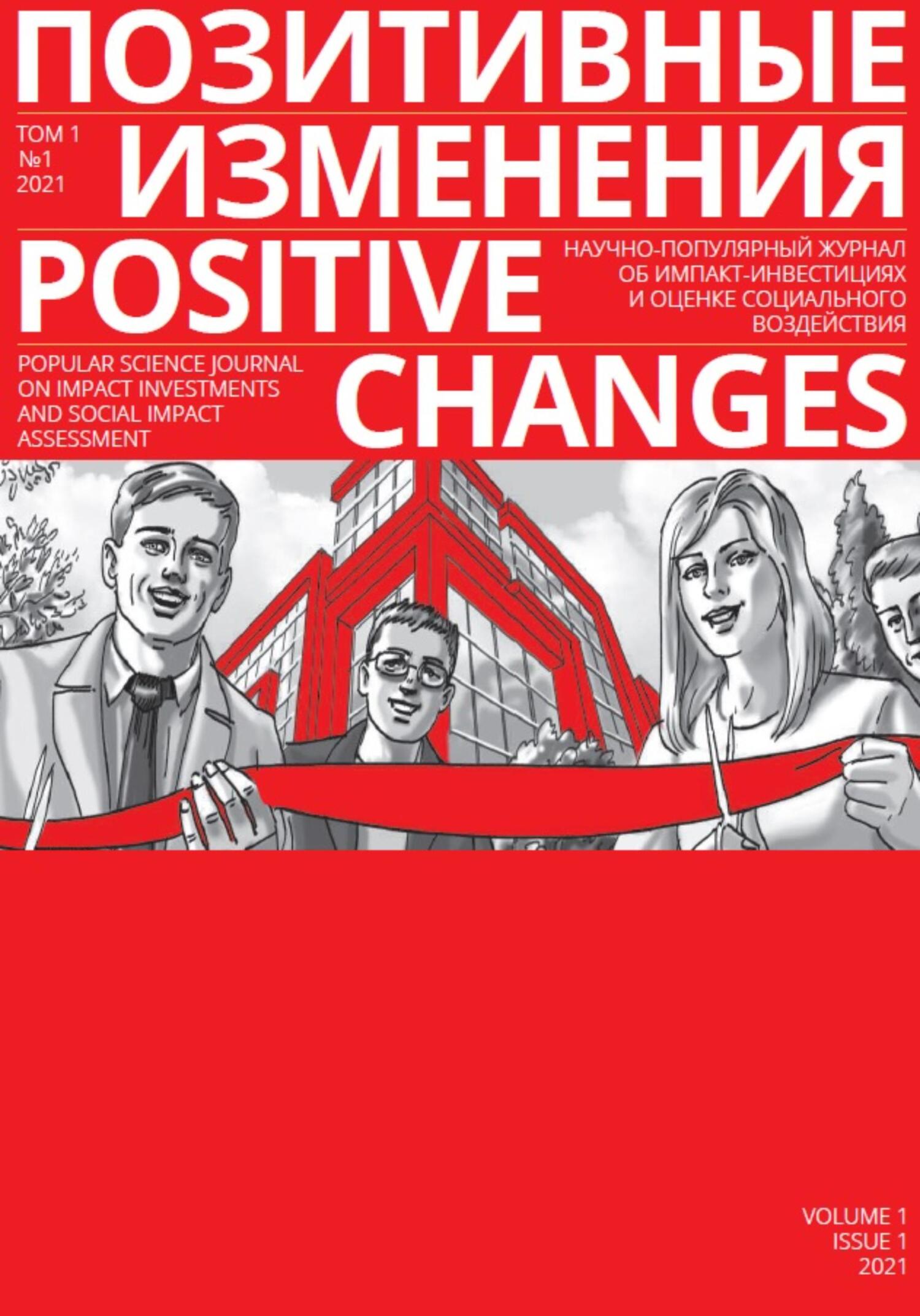ней тетка могла быть искренна. Перед Барброй ей не приходилось никого изображать. Барбра все знала, ибо какая-то часть тетки вселилась в Барбру. Словно та жила ее жизнью и в ус не дула.
I said hello, Dolly,
Well, hello, Dolly
It’s so nice to have you back where you belong
You’re lookin’ swell, Dolly
I can tell, Dolly
You’re still glowin’
You’re still crowin’
You’re still goin’ strong [8].
Много лет спустя я нашел в YouTube запись старой телепередачи – американского концерта в честь какой-то там годовщины образования государства Израиль. Американские евреи, скажу я вам, выжали из себя всё. Пели, играли и рассказывали анекдоты. Кульминацией стал – ах! – телемост. Барбра Стрейзанд говорила с Голдой Меир. Прямо со сцены звонила домой бывшему премьер-министру.
– Голда?
– Рада слышать твой голос. Жаль, что не могу тебя увидеть.
– Техника пока этого не позволяет.
– Может, на мой девяностый день рождения?
Голда, еврейская бабушка, смотрела с большого экрана, висящего над сценой. Она не видела Барбру, но слышала, как та поет израильский гимн. Тот гимн, под который невозможно маршировать, потому что у него мелодия украинской колыбельной. (Все будет хорошо; колыбельные обычно обещают, что все будет хорошо.)
Мне показалось, что Голда Меир смотрит на Барбру точно так же, как моя тетка, которая не была никакой теткой и давно уже лежала в гробу под чужой фамилией, с чужой биографией, в чужом городе – даже не помню в каком.
Я собирался отправить маме ссылку на это видео, но так этого и не сделал – мы тогда повздорили.
– Родители Пётрека красиво стареют, – заметила как-то раз мать.
– А твоя мама? – спросил я.
Знаменитое детское простодушие – полная фигня. Дети хитры, как юротдел бульварного журнала. Всегда знают, когда использовать вопросительный знак, зарубив на корню будущие иски: «Мы же только спросили».
– Нет.
У одной бабушки всё под контролем.
У второй – хаос, печаль, дымовая завеса (она курила «Клубные»). По углам клубились предметы. На мебели оседала липкая пыль – неизменный спутник газовых плит. Ее можно было скрести, пока не показывался слой дерева и след политуры.
Даже книжные корешки складывались в депрессивный набор: «Ослепление», «Каждый умирает в одиночку», «Черный обелиск». Она сидела над кроссвордом или над романом из библиотеки. Со временем оберточная бумага уступила место полиэтиленовым обложкам, но до штрих-кодов она не дожила. Мать моей матери.
Другая бабушка никогда не забывала положить клетчатую салфетку под скатерть и подготовить фрукты для ратафии (89).
Такой была мать моего отца. Лояльной. Лояльной к власти. Лояльной к миру. Кто-то написал, что она выглядит как ухоженная или хорошо сохранившаяся учительница.
Действительно, есть такие люди, которые вне зависимости от профессии ведут себя как учителя. Или как кто-то, кто водит иностранцев по предприятию. Риелтор, расхваливающий дом у железнодорожных путей.
Мама не могла простить ей эту деловитость. Собственную же мать укоряла в беспомощности.
В году эдак 1985-м по телевизору показали фильм «Шоа» – тот, с польскими мужиками, стоящими у костела, и «если вы поранитесь, мне ведь не будет больно». Он шел сразу после выпуска новостей с соответствующим, полным негодования, комментарием. «Смотрите, как нас оскорбляют, – говорили. – Как нас ужасно оскорбляют. Нас только и делают, что оскорбляют. Не успеешь оглянуться – а нас уже оскорбили. Мы вот их спасали, а они только того и ждут, чтобы опять нас оскорбить».
Мать моей матери посмотрела фильм и не произнесла ни слова.
Мать моего отца была возмущена. Резонировала с телевизионным возмущением. Лояльно вторила диктору.
Потом мне еще много раз доводилось наблюдать такое возмущенное единение. Искреннее и полное облегчения – наконец-то можно присоединиться к сообществу уязвленных, погреться у братского огня общего гнева.
Мать моего отца заявила, что фильм Ланцмана – пристрастен и несправедлив. Я впервые услышал, как бабушка рассказывает об оккупации, выходя за рамки дежурного набора из трех баек.
А затем – тоном, не терпящим возражений, – привела главный аргумент:
– Как-то раз я встретила дворника из дома, где жила до войны. Он точно меня узнал. Не мог не узнать. А прошел мимо, как ни в чем не бывало.
Должны были напечатать короткий некролог в большой рамке. Лаконичный стиль, много воздуха. Графический образ скорби и молчания (и не было похоже, что это из скупости).
Видимо, день выдался особенно богатый на покойников, потому что рамка съежилась. Поля исчезли. В последний путь бабушку провожал жалкий квадрат, втиснутый где-то внизу полосы.
– Ее обокрали! – плакала мать. – Даже это – и то забрали. Даже белого цвета пожалели. У нее украли свет.
– Это называется «воздух».
– Эти кретины из бюро объявлений украли у нее воздух.
Однажды мой ребенок спросил:
– Почему был Холокост?
Вроде я понимал, что рано или поздно этот вопрос прозвучит, но почему уже сейчас? Почему так рано?
– Видишь ли… – начал я. – Люди. Люди иногда.
– Люди?
– Некоторые люди.
– Так это из-за людей?
– Из-за людей. Да. Люди людям (90). То есть. Иногда. В группе. Люди. Иногда.
– Не из-за метеорита?
– Метеорит?
– А ты не думаешь, что динозавры вымерли из-за метеорита?
– Конечно из-за метеорита.
На следующий день я пересказал это на работе (а работал я в газете с правым уклоном). Все громко засмеялись, а один коллега спросил:
– Ну ты же объяснил ей, что поляки не имели с этим ничего общего?
III. Смех в нужных местах
Однажды звонит мне мама. Мы обижены друг на друга. Не помню из-за чего.
– Ты должен прийти, – говорит она.
– Я кое-чем занят, – отвечаю я.
– Приходи, когда освободишься.
Я знаю этот тон. У нее какой-то козырь. Туз. Поэтому иду.
В прихожей уже собрались подруги. Неотъемлемая часть нашей жизни. Когда что-то случается, приходят подруги. Греческий хор. Генеральная ассамблея. Внеочередное заседание совета директоров. Они рассаживаются вокруг кровати. Рассаживаются вокруг стола. Толпятся вокруг телефона. Звонят. Ищут пепельницы. Принимают решения.
На сей раз всё иначе. Подруги говорят вполголоса. Обнимают меня. Выходят.
Остается только мама, вжатая в угол фиолетового дивана. Рядом возвышается кипа газет. Мама молча протягивает мне оранжевый листок.
Мне не надо читать, я уже знаю.
Представляю себе врача. Он смотрит на снимок, двумя пальцами выстукивает заключение на компьютере. Сейчас нажмет «Печать» – тянется за листком. Оранжевые лежат отдельно. Возможно, их целая стопка. Возможно – всего несколько штук в какой-нибудь папке, стыдливо