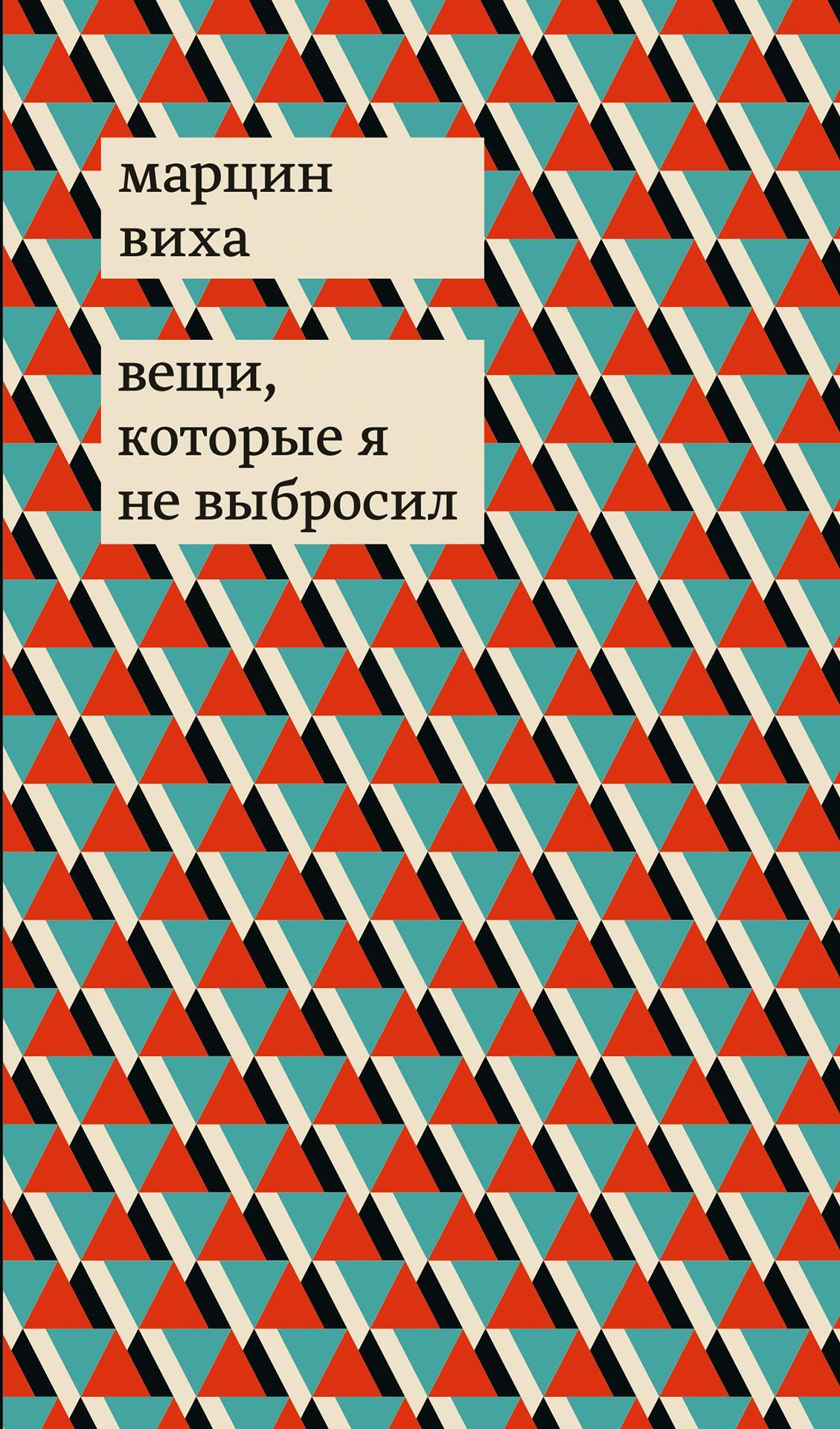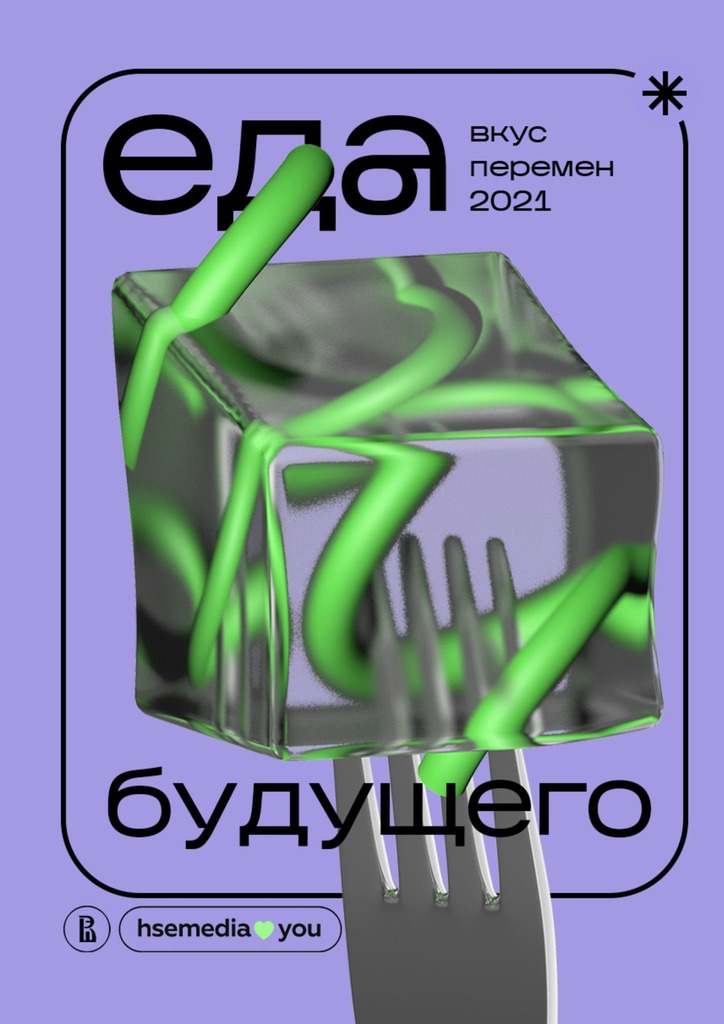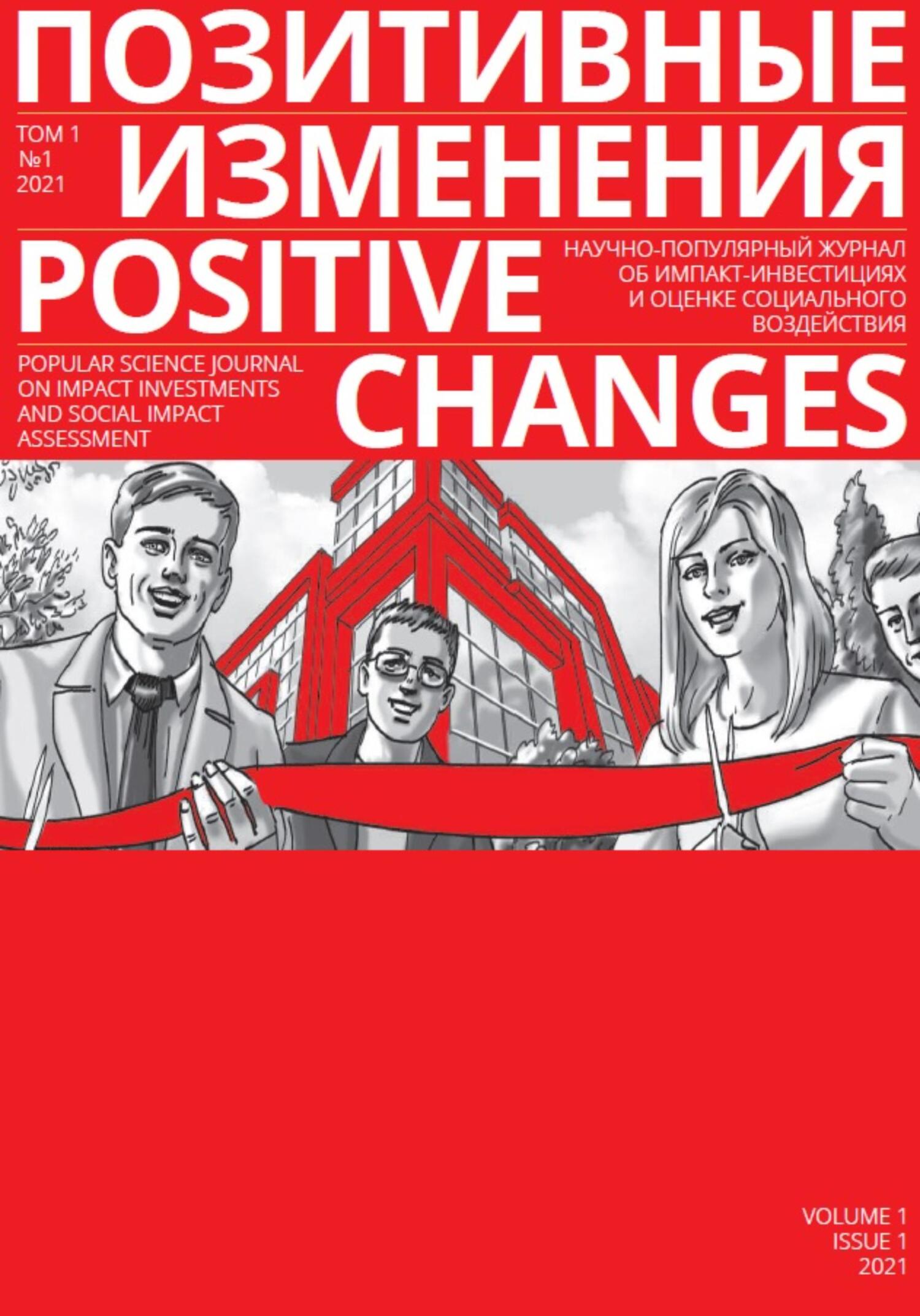Во всяком случае, что-то там с глазами. И что нужно очеловечить жертву. Да, это было в «Молчании ягнят». В критический момент можно рассчитывать только на детективы.
– Знаете, – начинаю я, – я тоже сторонник эвтаназии…
(Ноль реакции.)
– …но можно начать не с моей матери?
(Ноль реакции.)
Это тоже из какой-то книжки. Врачиха стучит по клавиатуре. Ищет место. Мне начинает казаться, что я в кино, сейчас билетерша развернет ко мне монитор: красные – занято, зеленые – свободно, экран вверху – может, что-нибудь в двенадцатом ряду, в середине.
– Ее зовут так-то и так-то. Еще вчера она чувствовала себя хорошо. Вполне самостоятельная, – торопливо объясняю я и добавляю: – В здравом уме.
Словно нахваливаю товар, которым торгую. Ну давай, смилуйся над нами. Не пожалеешь. Как в оккупацию: пан офицер, дай еще пожить. Пан немец, этот стеклянный глаз так по-человечески на меня смотрит.
Мы ждем. Врачиха куда-то звонит. Отвечает на звонки. Мужики в комбинезонах курят снаружи. Дверь нараспашку. Слышно, как бунчит радио, безликий голос диспетчера.
Врачиха смягчается.
– Лично я против госпитализации в таких случаях, – заявляет она.
– Понимаю, но мама просила в больницу…
– Вы знаете, какая это стадия?
– Да, но я хотел сказать, у мамы сейчас спутывается сознание…
– Путается.
– Путается, так сказал врач «скорой помощи», но еще позавчера она нормально общалась.
– Ну да, позавчера, – пожимает плечами врачиха. – Но сейчас… – Она недоговаривает.
У нее не дрогнул ни один мускул, когда она отказывалась принимать больного человека, но она стесняется произнести «ваша мать умирает». Язык-язычок. В стране уменьшительно-ласкательных форм к живому человеку можно отнестись как к трупу, но обязательно добавить «мама», «мамочка».
– Ваша мамочка вышла на финишную прямую, так сказать.
Она еще раз ударяет по клавиатуре. Потом принимает маму в больницу.
Некоторое время мне кажется, что я ее убедил. Но это мамины подруги сумели упросить какую-то шишку.
Утром ей становится лучше. Рядом с мамой появляется больничный врач.
– И что с вами случилось? – спрашивает он добродушно.
(Ноль реакции.)
– Вы знаете, почему вы здесь? – повторяет врач.
– Вероятно, за грехи предков, – отвечает мама, подумав. А потом добавляет в сторону: – Очень хорошо я ему сказала.
Ты действительно хорошо сказала. Браво. Тебе опять удалось. Чувак вскинул брови. Оторвал взгляд от листка бумаги. Посмотрел на тебя – как именно посмотрел? С удивлением, ошеломлением, уважением? Возможно, он тебя даже запомнил. Ты больше не сверток, тайком подброшенный в отделение. Именно это тебе и было нужно. Ты себе это выговорила.
– Где Петр? – спрашивает мама.
– Он же умер.
– Но в такой момент он должен быть здесь, – возражает она.
Мама по-прежнему не принимает неубедительных оправданий. По-прежнему не признает влияние высших сил. Если бы он хотел, пришел бы. Смерть – не повод.
– Ты одет, как придурок, – она меняет тему.
– Нормально.
– Мне нужно с тобой поговорить. И никаких сюси-пуси. Теперь я скажу, что о тебе думаю.
– Я знаю, что ты обо мне думаешь.
– Ты был здесь утром и даже не заглянул. Ходил по коридору и пел «Дед воевал в Тобруке» (94).
– У тебя был передоз морфина, ты помнишь?
– Вы все ходили и пели про Тобрук. Та женщина тоже в этом замешана.
– Тебе привиделось.
– Глаза матери не обманешь, тем более еврейской матери, – говорит она и добавляет громче: – Пусть слушают, что такого?
– Меня здесь не было. Послушай, разве ты меня так воспитала, что я стал бы расхаживать по больнице и петь «И будут помнить внуки: дед воевал в Тобруке»?
– Похоже, что так, увы.
А вечером:
– Я весь день тебя жду, а ты не успел прийти – и уже уходишь.
– Могу остаться.
– Не хочу тебя задерживать. Меня ждет веселая ночь.
– Ты плохо спишь?
– Плохо.
– Просыпаешься?
– Проснусь, увы.
Мама возвращается домой, однако она в бешенстве.
Когда-то давно врач при первичном осмотре не поставил правильный диагноз. Он мог бы догадаться, но мама врала напропалую. Уверяла, что ничего серьезного. Что это все возраст. Достаточно какой-нибудь таблетки, витаминов, терапии в специальной поликлинике, где работают по уникальной израильской методике. Мы ей верили.
Мама опутала своими сетями и его, честного человека, дипломированного врача.
Позже, уже после того, как обеспокоенные подруги затащили ее на обследование, когда все стало ясно, она прониклась к своему доктору внезапной и глубокой симпатией. Ни за что не хотела его менять.
– Он выписывает мне любой рецепт! – торжествовала она.
– Он всегда отвечает на звонки! – торжествовала она.
– Реагирует мгновенно! – торжествовала она.
– Одна нога здесь, другая там! – торжествовала она.
Потому что Он Испытывает Угрызения Совести.
Потому что Сейчас Его Гложет Совесть.
Речь мамы походила на письмо с требованием выкупа, состоящее из журнальных и газетных вырезок. Поговорок. Скрытых цитат. На каждый случай у нее находились подходящие слова. Она пользовалась ими, как набором инструментов. Отвертка к каждому винтику. Ключ к каждому замку.
Из слов она составляла конструкции. Неимоверно сложные предложения. С множеством придаточных ловушек и волчьих ям. Предложения – это планы сражений. Схемы военных операций. Она умела заманить противника в западню. Обойти с фланга и атаковать.
А теперь мы стоим вокруг нее.
– Я рассчитываю, – говорит она, – что кто-нибудь из моей семьи. Что кто-нибудь из моей семьи сподобится.
(Мы втроем стоим возле нее, но она не обращается ни к кому конкретно. Стыдит нас перед невидимой аудиторией. Рассчитывает, что кто-нибудь из ее семьи сподобится. Раньше она добавила бы «будет любезен»: «Я рассчитываю, что кто-нибудь из моей семьи будет любезен и сподобится».)
– Я рассчитываю, что кто-нибудь из моей семьи разъяснит этой женщине…
(Разъяснит! Этой женщине!)
– Разъяснит этой женщине, что…
(Забыла. Ей не хватило слов. Она не помнит, как сказать «пить», «чай», «кофе», «горячий». Не помнит имени сиделки, но все еще способна терроризировать нас интонацией.)
– Я рассчитываю… – повторяет она.
(С нажимом.)
– Что кто-нибудь из моей семьи…
(Кто-нибудь. Все равно кто.)
– Из моей семьи…
(Напоминание об обязанностях.)
– Сподобится…
(Сподобится – соблаговолит – будет добр – окажет мне любезность.)
– Этой женщине…
(Этой темной бестолковой женщине. Сиделке, которую мы сюда привели. Сиделке, которая никуда не годится. Которую мы выбрали, видимо, назло.)
– Чтобы…
(Чтобы что?)
– …
(Не помнит. Не помнит.)
– Не важно уже, – говорит мама. – Все равно.
И замолкает. В этот день она перестает с нами разговаривать. Не рискует. В молчании она вновь обретает контроль над словами.
– Ты как будто вернулась в детство, – шепчу я, – как будто у тебя снова есть няня. Помнишь ее? Помнишь пани Владзю? Хоть немного?
Ответ может быть только один.
– Совсем не помню.
С этого момента квартиру