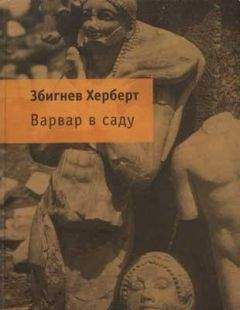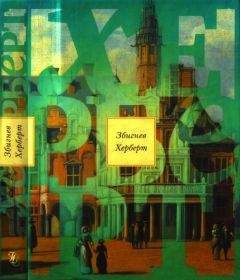Я говорю о живописи, но думаю и о поэзии. Сиенская школа дала потомкам пример, как развивать индивидуальный талант, не перечеркивая прошлое. Она исполнила то, о чем писал Элиот{134}, анализируя понятие традиции, которая у нас ассоциируется, к сожалению, не только в теории, ной на практике с академизмом.
«Ее невозможно унаследовать; тот, кто жаждет ее, должен будет ее выработать огромным усилием. Прежде всего она требует исторического чувства, которое следует признать почти обязательным для всякого, кто хотел бы оставаться поэтом, после того как он переступит рубеж двадцатипятилетия; историческое чувство заставляет замечать не только ушедшее, но и нынешнее прошлое, оно велит поэту, чтобы он, когда пишет, держал в крови не только одно собственное поколение, но и осознание того, что совокупность литературы Европы, начиная с Гомера, а в ее рамках совокупность литературы его страны существует синхронно и составляет синхронный порядок». И еще: «Никто ни в какой области искусства сам по себе не может обладать абсолютным значением. Значение и признание любого существует только в соотношении с прошлыми поэтами и художниками. Невозможно оценивать автора в отрыве, его необходимо поместить для сравнения и противопоставления среди умерших».
Маленькая траттория заполняется завсегдатаями. Они входят, берут с полки под часами свою салфетку и садятся за свой столик к своим приятелям. Со знанием дела и аппетитом, который словно бы нарастал из поколения в поколение, едят спагетти, пьют вино, беседуют, играют в карты и кости. Беседа чрезвычайно оживленная. В итальянском в сравнении со всеми другими языками, пожалуй, самый большой ресурс междометий, и все эти via, veh, ahi, ih взрываются, как петарды. Догадываюсь, что речь идет о Палио. Через неделю Палио.
Название происходит от куска расписанного шелка, который ежегодно получает один из наездников в скачках вокруг Кампо, то есть рыночной площади. Каждый год 2 июня и 16 августа город превращается в большой исторический театр, который был бы весьма по вкусу Честертону{135}. Три городских района, или так называемые терци, — Читта, Сан Мартино и Камолья — выставляют своих наездников. Это наследие средневековой военной организации, которая делила город на семнадцать контраде, небольших войсковых общин, и у каждой из них был свой командир, своя церковь, знамя и герб. Дважды в год — причем на полном серьезе, а не только для туристов — разгораются страсти, делаются высокие ставки, плетутся запутанные интриги вокруг вероятного победителя. Празднество чрезвычайно красочное, шумное — суматоха, кони. Вот так, от истории остался костюм, а война превратилась в кавалькаду вокруг рыночной площади.
Я прошу у хозяина траттории самого лучшего вина. Он приносит прошлогоднее кьянти с собственного виноградника. Говорит, что его семья владеет этим виноградником уже четыреста лет, и лучше этого кьянти в Сиене нет. Сейчас из-за стойки он наблюдает за мной: что я буду делать с этим благородным напитком.
Полагается наклонить стакан и посмотреть, как вино стекает по стеклу, не оставляет ли следов. Затем стакан подносится к глазам, и, как говорит один французский поэт, глаза утопают в живом рубине и наслаждаются созерцанием его, словно китайского моря, полного кораллов и водорослей. Третий жест — приблизить край стакана к нижней губе и вдыхать аромат маммола — букетика фиалок, означающий, что это отличное кьянти. Затянуться им до самого дна легких так, чтобы внутри задержался запах зрелого винограда и земли. Наконец — но без варварской поспешности, — сделать небольшой глоток и языком растереть замшевый вкус по нёбу.
Я с одобрением улыбаюсь хозяину. Над его головой загорается большущая лампочка радостной гордости. Жизнь прекрасна, и люди добры.
На второе я заказал bistecca alia Bismarck[43]. Он оказался жилистым. Ничего удивительного — столько лет.
Это мой последний вечер в Сиене. Иду на Кампо бросить монетку в пруд Фонтегайя, хотя, по правде сказать, надежд вернуться сюда у меня маловато. Потом говорю Палаццо Публико и башне Манджа (а кому еще я могу сказать?) — adio. Auguri Siena, tanti auguri[44].
Возвращаюсь в «Три девицы». Очень хочется разбудить горничную и сообщить ей, что завтра я уезжаю и что тут мне было хорошо. И если бы я не боялся этого слова, я бы сказал, что был счастлив. Вот только не знаю, правильно ли я буду понят.
Ложусь в постель со стихами Унгаретти{136}. У него есть одно очень подходящее прощание:
Вновь вижу я твои медлительные уста
Ночью море выходит навстречу им
Ноги твоих коней
Проваливаются в агонии
В объятья мои напевные
Вижу сон он приносит опять
Цветение новое и новых умерших
Одиночество злое
Которое каждый любящий открывает в себе
Словно могила разверстая
Отделяет меня от тебя навсегда
Любимая в дальних затонувшая зеркалах.
Поезд прибыл на Северный вокзал около полуночи. На выходе ко мне подкатился человечек, предлагая гостиницу. Но провести первую парижскую ночь в постели показалось мне святотатством. К тому же зазывала был рыжий, а следовательно, подозрительный. «Il y u du louche dans cette affaire»[45], — подумал я. И вот, оставив чемодан в камере хранения и вооружившись французско-польским словарем, а также «Путеводителем по Европе» (издание 2-е, исправленное и дополненное Академическим туристским клубом, Львов, 1909), я вышел в город.
Эта бесценная книга из отцовской библиотеки приоткрывала мне тайны Парижа. Издана она была в ту эпоху, когда по городу ездили омнибусы, запряженные тремя белыми лошадьми, на улице Эстрапад процветал польский пансион пани Пюро, а благотворительной деятельностью занималось основанное в 1862 году «Общество Чести и Хлеба» во главе с председателем Замойским. Культурная информация в путеводителе была достаточно скупой, но содержательной, в частности, сообщалось, что театров много, но цены завышенные и что не следует ходить с дамой на галерку. В разделе «Музеи и достопримечательности» путеводитель на первом месте называл Les Egouts, то есть каналы системы канализации, тем паче что бесплатные билеты на осмотр их выдавались в ратуше. Особенно возбуждал воображение совет посетить La Morgue (морг) около собора Нотр-Дам. «Здесь выставлены тела покойников, чьи личности не установлены (замороженные, они выдерживают до трех месяцев)».
Я шагал по Севастопольскому бульвару, ошеломленный многолюдьем, обилием машин и света. Мне хотелось во что бы то ни стало дойти до Сены. Опыт провинциала подсказывал, что за рекой должно быть потише. И вот я перешел мост и оказался на Сите. Тут действительно было спокойней и темней. Начался дождь. Я миновал Консьержери, угрюмое здание, словно бы сошедшее с иллюстраций к Виктору Гюго, и оказался перед освещенным собором Нотр-Дам. Тогда-то это и произошло. Я уже знал, что не напишу работу о Поле Валери{137} и что, к огорчению моих литературных коллег, вернусь на родину, не зная, кто сейчас самый модный французский поэт.
Поселился я неподалеку от собора на острове Сен-Луи. Через несколько дней, воспользовавшись воскресной скидкой на железнодорожные билеты, поехал в Шартр. И здесь моя судьба любителя готики была окончательно решена. С той поры я пользовался любой оказией, чтобы осуществить безумный план посмотреть все французские готические соборы. Осуществился он, конечно, не полностью, однако я повидал самые главные: в Санлисе, Туре, Нуайоне, Лане, Лионе, Шалон-сюр-Марн, Реймсе, Руане, Бове, Амьене, Бурже. После этих поездок я возвращался в Париж, как с гор, и углублялся в книги в библиотеке на холме Сент-Женевьев. Поначалу я наивно искал формулу, объясняющую всю готику. То, что в ней является одновременно конструкцией, символикой и метафизикой. Однако осторожные ученые не давали однозначного ответа.
Замысел этого очерка пришел ко мне в Шартре, когда я стоял на каменной галерее так называемой Новой колокольни. Плывущие вверху тучи создавали ощущение полета. Под ногами у меня был огромный замшелый блок песчаника с вырезанной стрелкой — клеймом каменщика. Так может, вместо того чтобы писать о витражах, которые модулируют свет, как григорианское пение модулировало тишину, и о таинственных химерах, что склонились в задумчивости над бездной веков, имеет смысл подумать, как этот камень попал сюда наверх. Иными словами, о рабочих-каменщиках и архитекторах, но не о том, что происходило в их душах, когда они возводили собор, а о том, какие они использовали материалы, инструменты, методы, а также сколько зарабатывали. Замысел скромный, как если бы о готике вознамерился писать бухгалтер, однако средневековье учит заодно и скромности.