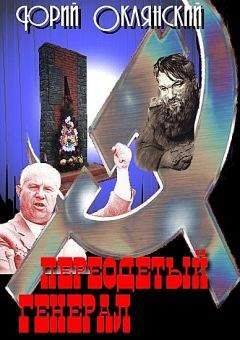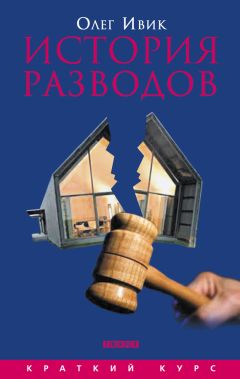— Не горюй, Володя, — все чаще говорила ему Анюта, даже когда в глазах его не было и тени грусти.
А Зеболов, садясь за стол с дымящейся картошкой и нагибаясь ближе к тарелке, отвечал:
— По-ве-се-лимся-а-а…
Это означало, что пора отделению ужинать. Володя иногда поддразнивал радистку, вспоминая, как она хотела подстрелить меня во время первой нашей засады, когда я мчался мимо нее на немецкой легковой машине».
Нрава, как видим, эта девушка была решительного и крутого.
В книге Вершигоры много персонажей и красочных бытовых картин. Может, кое-что из описаний внутреннего мира партизанской молодежи и интимных движений души покажется ныне однолинейным и даже упрощенным. Герои порой неотесанны, вроде бы грубоваты, сконцентрированы на одном, не блещут слишком широким спектром желаний и чувств. Им подавай одну дружбу, одну любовь, одну победу. Но такое было время, такая эпоха. А Вершигора пишет искренне, и книга его при ряде очевидных теперь недостатков в целом правдива.
Это главное ее достоинство отмечают даже самые строгие ценители, вроде западногерманского исследователя Вольфганга Казака. Отзыв из статьи о П. Вершигоре его «Лексикона русской литературы XX века» (доработанное немецкое издание — 1992 г., русское издание — 1996 г.) приводился в очерке «Переодетый генерал».
Интересно в этом смысле собственное самочувствие писателя. Вскоре после кончины Вершигоры его вдова Ольга Семеновна вместе с другими архивными документами и книгами передала Зеболовым страницу из его дневника. Запись сделана 25 ноября 1962 года, вскоре после перенесенного инфаркта, всего за четыре месяца до смерти. С печальным трепетным чувством впервые воспроизвожу ее здесь.
«Все-таки какой же я писатель? — спрашивает себя П.П. — Не знаю. Хотя, нет — кажется, знаю. Знаю и могу ответить и без ложной скромности, и без опасения, что меня обвинят в бахвальстве или зазнайстве. А ведь таких завистников тоже хватало. В общем одни восхищались, другие просто хвалили, третьи часто критиковали, четвертые тщились из злобной зависти пришить дело, пятые по-серовски подогнать под трибунал. А были и такие наследники Берия, которые настойчиво и упорно доводили меня или до запоев, или до пули в лоб. Но спилась моя любимая жена, а не я. И, видимо, никогда я не застрелюсь, а подобно как многие творческие люди нашей эпохи просто подохну от инсульта или инфаркта [….].
Так все же какой я писатель: гениальный, или просто талантливый, или средний, или бездарный, или, может быть, даже подлый? Весь этот набор эпитетов я слыхал о себе и читал. Но даже никто из моих злейших врагов и завистников никогда не обвинял меня в нечестности, а недруги литературные — в подражательности. Значит, я писатель честный и оригинальный. Первый эпитет принадлежит очень сдержанному на похвалы собратьям по перу Михаилу Александровичу Шолохову, сказавшему как-то: «Люди с чистой совестью» — это, братцы, честная книга». Второй эпитет дал мне неизвестный страдалец из Норильска[….].
Значит, точный ответ на мучительный для меня — особенно мучительный сейчас, после летнего 1962 года, первого звонка с того света, — будет такой: я писатель честный и оригинальный.
Да, чуть не забыл, моя бывшая жена в трагичный период моей личной жизни — развода с ней, добавила третью убийственную оценку — лодырь. Пожалуй, и это тоже верно. Но только отчасти… Ей-ей, только отчасти! Ведь и расхожусь я, Ольга, с тобою, только спасая от тебя свое право и назначение трудиться в литературе…»
Через четыре месяца ночью, от очередного приступа болезни, Вершигора задохнулся.
Что же касается Володи Зеболова, то он как был, так и остался романтиком. «Володя, Володя! Неисправимый ты романтик, хороший ты парняга и большущий чудак!» — чуть ли не причитал в одном из писем Вершигора.
Не изменился он и десятилетия спустя, когда уже превратился в солидного доцента — преподавателя истории пединститута и университета. И цветы он любил, как тот незабвенной памяти районный киномеханик Нин.
Известный в свое время московский поэт Владимир Туркин, друживший с ветераном войны, даже написал об этом маленькую бытовую балладу. Случай взят из жизни. Герой выведен под своим именем. Стихи так и названы «Цветы». Приведу их здесь.
Цветы
Что с вами, женщины, случается,
Когда средь скучной суеты
Вам неожиданно вручаются
Совсем обычные цветы?..
Я вспомнил давнюю историю,
Я вспомнил старый эпизод,
Я вспомнил случай,
От которого
Доныне стыд меня грызет.
И ничего б такого не было,
Когда б в понятье красоты
Не ввел меня Володя Зеболов,
Купивший женщинам цветы.
…Мы шли с ним где-то возле Пятницкой…
Не помышляя об ином,
Мы шли поздравить женщин с праздником,
С Международным женским днем.
И — весь авоськами навьюченный —
Неосторожно думал я:
А что для них — войной измученных —
Есть лучше снеди и питья.
Был март. И падала под ноги нам
Капель с карнизной высоты.
И вдруг от голоса Володиного
Я вздрогнул:
«Подожди. Цветы!»
И он, со снайперскою точностью
Перемахнув десяток луж,
Уже стоял перед цветочницей…
Перед молоденькой к тому ж.
Как тяжело рукам! Беспомощно
Оглядывался я вокруг…
Но дело в том… Но дело в том еще,
Что у Володи нету рук…
Но дело в том… но дело в том еще,
Что он лишь совестью влеком,
Под вой сирен пришел за помощью
Не в райсобес,
Пришел в райком:
«А что вы думаете, где бы я
Быть должен в этот трудный час?
Что ж, что солдат подобных не было!
Пусть я им буду. Первый раз…»
И в тыл врага пробит маршрут ему.
Лети, солдат, лети, лети…
Ах, эти стропы парашютные…
Ах, две беспомощных культи…
Засада. Бой. Тропинки дальние.
Разведка. Ночь. Костра дымок.
Он добывал такие данные,
Каких никто добыть не мог.
А как тепла и ласки хочется!..
Смерть — не права. Но жизнь — права.
…Вот он стоит перед цветочницей,
За спину сдвинув рукава.
И с неистраченною нежностью
Всю душу отдает словам:
— Мне пять букетиков подснежников.
Мне — пять.
Шестой — позвольте вам…
Что с вами, женщины, случается,
Когда средь скучной суеты
Вам неожиданно вручаются
Совсем обычные цветы?..
* * *
Злосчастное парашютное приземление с пленением и побоями в отряде партизанской самообороны было не единственным случаем, когда Борода спасал своего питомца, вырывал его из лап жестоких обстоятельств. Недаром Владимир Акимович считал Вершигору «вторым папашей».
В последнем прижизненном издании книги «Люди с чистой совестью» писатель сделал такое примечание: «Послевоенная судьба Зеболова тоже стоит того, чтобы о ней рассказать. Весной 1943 года он по приказу начальства был отозван в Москву. Оттуда его несколько раз «забрасывали» в тыл… Кончилась война, и единственный из ковпаковцев, не имевший даже партизанской медали, а не то, что ордена, был как раз он — Володя Зеболов. И парень запил. Не от неудовлетворенного честолюбия, а от обиды.
Как-то получаю письмо от отца Зеболова. Узнаю: сидит его безрукий сын в тюрьме. Выясняю причину. Оказывается, случилось вот что… В одном из фабричных ларьков работникам предприятия продавали хлеб без карточек. По полкило в одни руки. Здесь покупала его и одна местная жительница, мать двух партизан, погибших на войне, — на ее руках остались внуки, партизанские дети. Но вот директор вдруг запретил продавать хлеб этой женщине и приказал вахтеру гнать бабку прочь.
Пришла старушка — ее не пускают… Просит, плачет, настаивает… Вахтер оттолкнул ее — и она упала в грязь. Все это видел мой Володя. Бросился он на вахтера и своими культями «сделал» из него «свиную отбивную». Конечно, совершил Володя непростительную ошибку. Ему бы из «лика» самого директора такую отбивную сделать — ну куда ни шло. В общем, тут же и суд, а затем тюрьма.
Что же делать? Чем помочь боевому товарищу, думал я. И написал я в Брянский обком партии письмо. Все подробно рассказал о Володе Зеболове, о его судьбе, о подвигах, об обиде… Говорили мне — вызвали его из тюрьмы прямо в обком. Лично первый секретарь обкома беседовал с ним, а потом взял его на поруки. И вот пошел Володя учиться — окончил пединститут… и теперь работает преподавателем».
Драма разыгралась вскоре после окончания войны возле фабричного хлебного ларька поселка Малый Вышков, неподалеку от Новозыбкова. Там на спичечной фабрике с уцелевшим названием «Революционный путь» работал отец Володи, жил теперь и он сам.