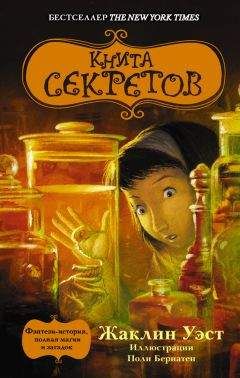и на суде, добавляя, что сначала она наотрез отказалась, но папа схватил ее за горло, и они дрались, пока мама не убежала из дома к своей матери. Обвинитель выразил сомнение в правдивости этих слов на основании того, что она работала по своей воле, что у мамы с папой никогда не происходило расставаний, они оставались в отношениях вплоть до дня папиного ареста за убийство. В подтверждение своих слов он зачитал цитаты, в которых мама пишет о папе в своем дневнике и говорит, как сильно его любит.
На это указывает даже то, что мама с папой назвали дочь Тарой в честь отеля «Тара» в деревне Аптон-Сент-Ленардс в Глостершире (теперь он называется «Хэттон-Курт»), где она иногда встречалась с одним из своих клиентов – мужчиной с Ямайки по кличке Роско. Они думали, что это и был отец Тары. Должно быть, назвать Тару так было своеобразной шуткой между ними. К тому же у мамы был достаточно сильный характер, и сложно представить, чтобы она согласилась так назвать дочь, если бы ей и правда было мерзко от того, каким путем та появилась на свет.
Кроме того, на суде выяснилось, что папу очень радовал факт рождения у мамы детей от мужчин другой национальности. Обвинение предоставило доказательство, что он годами проводил множество самодеятельных экспериментов со спермой, взятой из презервативов, которые оставляли чернокожие клиенты мамы – с помощью медных трубок и шприцев он пытался искусственно оплодотворить ее этой спермой. Как заявляло обвинение, мама была согласна на это и даже предполагала, что таким образом были зачаты Тара и две моих младших сестры.
Это кажется мне очень неправдоподобным. Но как бы они ни были зачаты и кто бы ни был их отцами, это никогда не ослабляло и не могло ослабить мои родственные чувства. Я всегда относилась к ним так же тепло, как и к моим единокровным братьям и сестрам – больше того, после ареста мамы я особенно сблизилась с Тарой, мы до сих пор с ней регулярно видимся. Мы все оставались частью одной семьи. Я любила их всех и всегда с большой радостью ухаживала за каждым из них.
Хотя мама была без ума от Тары, когда та родилась, однако с Хезер, Стивом и мной она стала вести себя еще более сурово. Новорожденная требовала к себе больше ее внимания, и у мамы оставалось меньше времени и терпения по отношению к нам. Она становилась все более жестокой, раздражалась на нас по малейшему поводу, который только ей удавалось отыскать. Она бросала кастрюли и сковородки нам в голову, и один раз вообще напрочь вырубила Стива, разбив об его голову стеклянную чашу для запекания.
Порой она кидалась кухонными стульями в нас, а однажды подняла телевизор и нацелилась им в Тару. К счастью, мама вовремя остыла, но если бы она сделала это, Тара бы сильно пострадала – и мама наверняка об этом знала. Казалось, ее совсем не беспокоил риск нанести нам физический ущерб, даже когда она выхватывала Тару из ее высокого детского стульчика, била ее и затем кидала обратно на стул, а все из-за того, что Тара бросила еду на пол.
Когда мама проявила ко мне настоящую жестокость в последний раз, я была подростком, а она преследовала меня с ножом. Мы были на кухне, я помню, что она резала мясо разделочным ножом. Я переодевалась, в тот момент на мне был только жилет и трико. Я стояла наверху лестницы, которую папа построил для спуска в подвал. Наверное, я сказала что-то раздражающее, из-за чего она вдруг рассвирепела, схватила нож и, размахивая им, бросилась ко мне.
– Ну все, на хер, с меня хватит, Мэй! Ты слышишь?
Я завопила и попятилась от нее.
– Перестань, мам! Ты меня пугаешь!
– Хватит говорить, что мне делать, сраная мелкая сучка! Думаешь, я тебя им не ударю? А?
Она стала делать режущие движения прямо перед моей грудью. Нож прорвал жилетку, оставлял порезы на коже. Я застыла. Попыталась увернуться, но она продолжала идти на меня.
– Мама, пожалуйста! Не надо! Нет!
– Тогда замолчи!
Но я оцепенела и, наверное, правда хныкала от испуга. Она выглядела так, будто и правда хотела меня убить.
– Я сказала, молчать!
В страхе за свою жизнь я убежала в подвал. Я думала, что она может пойти за мной, и там бежать будет некуда, но она стояла наверху лестницы в подвал, проклинала и ругала меня и наконец вернулась обратно резать мясо, рыча на Хезер и Стива, которые в ужасе наблюдали эту сцену:
– А вы, двое, на что вылупились?
Мама не придиралась ни к одному из нас больше, чем к другому. Время от времени каждый из нас попадался ей под руку. Иногда она наказывала нас не просто сгоряча – накидываясь по любому поводу, какой только могла найти, – ее действия могли быть более хладнокровными и спланированными. Это был уже осознанный садизм. Для этих случаев у нее был шкаф с палками и ремнями. Она доставала оттуда орудие наказания по своему выбору, ставила нас в ряд и била по очереди.
Это было хуже всего. Чем самой подвергаться наказанию, еще тяжелее было смотреть, как бьют моих братьев и сестер. У Хезер и Стива это вызывало те же чувства. Иногда мама спрашивала, кто из нас провинился – например, разбил тарелку, – и тогда один из нас пытался взять вину на себя, а с ней и последующие побои, даже если это неправда. Мы надеялись, что если о проступке заявит только один, то остальные смогут спастись от наказания. Но это никогда ее не останавливало. Она лишь говорила, что мы все равно заслужили это, и если не все виноваты в этот раз, то она знала, что все мы обязательно провинимся в будущем.