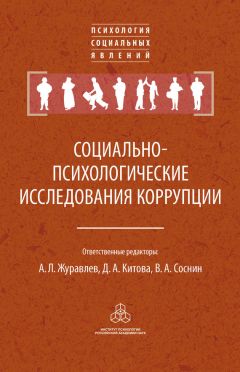Пулемётчик Кауфман, сидя в блиндаже под Тихвином, записывает в блокнот фантастическое предположение: а что, если сейчас прилетят инопланетяне и велят нам побрататься с немцами? Поэт Самойлов, как и всё его поколение, выросший на планетарности бытия, записывает сорок лет спустя:
…И только лица побелели.
Цветной сигнал взлетел, как плеть…
Когда себя не пожалели,
Планету нечего жалеть!
Планета исчезает под ударом плети, вычерченной в воздухе сигнальной к бою ракетой.
Какой пейзаж созвучен этой экзистенциальной гулкости? Бульвары и улицы Москвы? Тропинки Подмосковья? Исчезают навсегда эти картины детства. Северный балтийский пейзаж воцаряется. Море, снег. Излука залива – как берег вселенной. Пустынность, простор, взлетающие чайки.
"Дождь. Ветер. Запах моря. Тьма."
В "Пярнуских элегиях" – ничего традиционно элегического. Озноб и тревога, одиночество и мертвая тишь. Смутные голоса из-за холмов. Голоса ушедших.
"Перед тобой стоит туман, а позади – вода, а под тобой сыра земля, а над тобой звезда…"
И на последней черте мальчики Державы помнят, что они – граждане Мироздания. Ранее оно назначалось к освоению, теперь остаётся непознаваемым:
"А большего не надо знать, всё прочее – обман. Поёт звезда, летит прибой, земля ушла в туман…"
Первоосновы бытия обнажаются. Из-под ясной чёткости выступает "отяжелевший вечный смысл". Названия ему нет.
Душа просится обратно к истокам. Птицы пусть летят вспять. Воды катятся вспять. Человечество пятится к нулевой точке. Рем и Ромул ищут сосцы волчицы. Но с нулевой точки всё опять пойдёт по тому же роковому пути.
"Пойдут, плутая в диких травах, отъяты от сосцов обильных, поняв, что единеньем слабых побьют разъединенье сильных…"
Точное определение недостижимых целей!
"…Над ними будет крик гусиный, пред ними будет край безлесный, а впереди их – путь пустынный, но на устах язык вселенский…"
Это – одно из сильнейших стихотворений в лирике Самойлова: по тому, как в точные приметы одевается то, что не удерживается в приметах, по тому, как именуется то, чему нет имени.
Вопрос: "Зачем?", над которым, умирая, мучился простяга Цыганов, у одержимого поисками смысла Самойлова пронизывает всю его жизнь. Вопрос – из "последних", а по-русски – из "проклятых", и по-русски же – из "блаженных". Или "блажных".
"Зачем я существую?"
Поэтический ответ:
"Я стал самим собой, не зная, зачем я стал собой."
Факт поэтического ответа содержит в себе новый вопрос:
Но зачем этот сад накануне зимы,
Этот город туманный зачем?
И зачем же тогда в этом городе мы,
Сочинители странных поэм?
Зимний сад и туманный город навевают мысль о мастерстве ремесленников-ганзейцев. Невозможно понять, зачем искусство и поэзия, но можно почувствовать, как обтачивание кувшинов, мечей или слов помогает душе держаться в тумане опустевшего мирозданья.
Самойловские шедевры пронизаны двойственным чувством профессионального мастерства и счастливого неведения о смысле его.
...Поэзия – последний, "третий перевал". Дальше – бездна. Неведение, неотличимое от всеведения. Точка.
"Цель вселенной – точка. И эта точка – Бог".
Отпрыск атеистического поколения окончательно познаёт Бога в миг исчезновения всего, что не Бог. А если и Бог – исчезающая точка? Тогда и терять нечего. Поражавший когда-то сверстников неуёмной смешливостью поэт, осознав роковой круг, возвращает себе самоощущение: он "счастлив по природе". Можно сказать, что это псевдоним мужества. Но лучше – словами самого поэта:
Как забывается дурное!
А память о счастливом дне,
Как излученье роковое,
Накапливается во мне.
Накапливается, как стронций
В крови. И жжёт меня дотла –
Лицо, улыбка, листья, солнце.
О горе! Я не помню зла!
Вот и всё. Свободный стих завершает поиск опоры. Сила – это сила слова, речи, мысли. Русская речь – единственное неутрачиваемое достояние.
"Нет ничего дороже, чем фраза, так облегающая мысль, как будто это одно и то же."
Нет ничего. Вот и всё, что есть.
Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении
Стали слышны наши голоса…
Голос Самойлова, расслышанный впервые в конце 50-х, звучит ещё три десятилетия, уже не сенсационно и протестно, а как-то отрешённо. Сколько пронзительности в этом кажущемся отрешении! Вроде бы ни слова о стране, а всё о звездах, о камнях, о потерянных смыслах. Но страна – в каждой строчке.
"России нужны слова о России."
Потому так напряжённо и вслушивается Россия в долетающие из эстонского городка Пярну философемы отъехавшего туда русского поэта. Ибо это – о ней, о Державе, похоронившей поколение исповедников несостоявшейся счастливой утопии и состоявшейся горькой судьбы.
Мне выпало счастье быть русским поэтом.
Мне выпала честь прикасаться к победам.
Мне выпало горе родиться в двадцатом,
В проклятом году и в столетье проклятом.
Мне выпало все. И при этом я выпал,
Как пьяный из фуры, в походе великом.
Как валенок мерзлый, валяюсь в кювете.
Добро на Руси ничего не имети.
Бог послал Давиду Самойлову счастливую смерть: он умер мгновенно, на вечере памяти Бориса Пастернака.
Это случилось в 1990 году, 23 февраля. В день Советской Армии.
Как и Слуцкого, армия его не отдала.
Евгений Нефёдов ВАШИМИ УСТАМИ
ИСАЕВ – 2
"Я не тот, за кого вы меня принимаете...
Язычник я , я исполин...
Я – Солнце, я всегда в зените...
Я как будто бы лунный ком...
Я надену колпак пилигрима...
Я пёс, который за счастьем бежит...
Я становлюсь стройнее и умнее...”
Валерий ИСАЕВ
Да, я Исаев – но не тот,
Что вы сперва решили, братцы,
Хоть тоже, если разобраться,
В зените я который год.
Поскольку, скромно говоря,
Я – Солнце и Луна – не скрою,
Я – исполин! Хотя порою
Как пёс бегу за счастьем зря...
Я пилигрим под колпаком,
А кроме этого, пожалуй, –
Язычник. Так что языком
Наговорить могу немало...
И становлюсь при этом я
Стройней, умней по всем приметам,
Но всё же разница, друзья,
Есть у Исаевых – поэтов:
Один вершил накалом строк
“Суд памяти” в былые годы,
Другого – самого привлёк
К Суду пародии Нефёдов...