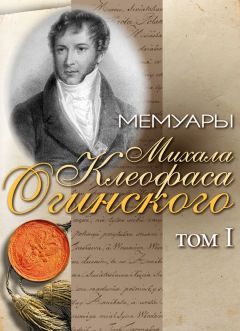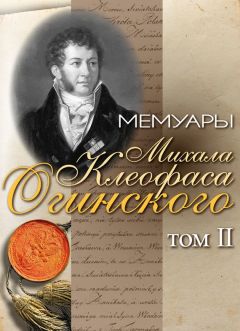Составлено в Гродно, 23 июня 1793 года.
Подписано, как указано выше».
В тот же день приказом короля и сейма канцлерам было поручено направить всем послам иностранных дворов, сохранявших дружеское расположение к Польше, вышеуказанные ноты представителей России и Пруссии вместе с ответами на них.
На следующий же день посол России передал сейму следующую ноту.
«Нижеподписавшийся получил ответ на свою ноту от 19 июня, который объединенный сейм счел нужным дать ему через Их превосходительств господ канцлеров, и должен, не теряя ни минуты, ответить, что, следуя определенным инструкциям и неизменным намерениям Ее императорского величества, своей августейшей государыни, он не может вступать ни в какие дискуссии, уклоняющиеся от предмета, обозначенного в декларации двух союзнических дворов от 9 апреля, так как от него зависят будущие спокойствие и благосостояние Речи Посполитой.
Нижеподписавшийся обязан, таким образом, потребовать от объединенного сейма назначить без промедления соответствующую комиссию, снабженную достаточными полномочиями, чтобы вступить в переговоры и заключить окончательный договор на предмет, ясно выраженный в вышеназванной декларации и в ноте, переданной 17-го числа текущего месяца. Новые отсрочки лишь усугубят нынешнее состояние Речи Посполитой и лишь отдалят соглашения, столь необходимые для возрождения национального благосостояния посредством разумной формы правления.
Нижеподписавшийся не преминет немедленно доставить своей августейшей государыне вышеозначенный ответ объединенного сейма. Ее императорское величество с живейшим удовольствием найдет в нем, несомненно, выражение дружеских чувств и лояльности Речи Посполитой по отношению к ней.
Нижеподписавшийся считает себя вправе заверить авансом блистательную ассамблею сейма в постоянной дружбе и благорасположении своей августейшей государыни.
Составлено в Гродно, 24 июня 1793 года.
Подписал Яков фон Сиверс».
В тот же день подобная нота была передана представителем Пруссии Бухгольцем, и 29 июня оба этих представителя передали сейму единую ноту, в которой выражали свое удивление по поводу того, что ассамблея сейма пытается разделить интересы обоих союзных дворов, объединенные мудростью их августейших повелителей. Заявлялось также, что следует принять единый подход в обращении с обоими союзными дворами, и выдвигалось требование незамедлительно назначить комиссию для совместных переговоров с обоими представителями.
Я привел здесь эти официальные документы, чтобы пояснить, что должно было стать предметом обсуждения на том злосчастном сейме, и указать на тот повелительный тон, который применялся в обращении к представителям нации.
На последующих страницах я также предпочел приводить ноты, которыми взаимно обменивались сейм и представители России и Пруссии, вместо того чтобы переписывать дневник заседаний, который лишь представил бы картину яростных метаний в разных направлениях и череду разных речей: одни являли собой низость и угодничество, другие – объяснения и оправдания. В иных, вдохновленных главенствующей партией, выражались самые крайние якобинские идеи, чтобы раззадорить Сиверса. Иные же, произносимые с силой и энергией многими членами ассамблеи, содержали жалобы на совершаемые здесь акты насилия.
Я ограничился тем, что процитировал лишь некоторые пассажи из малого количества этих речей, которые считал себя обязанным упомянуть.
Создавая эти «Мемуары», я обещал себе не упускать ничего из того, что касается меня лично, чтобы показать себя таким, каким я был во время всех тех исторических перипетий, которые претерпевала Польша. Потому я посвящу следующую главу рассказу о своих отношениях с королем и российским послом, а также описанию того грустного положения, в котором я тогда оказался, прежде чем возобновить нить повествования о последующей деятельности сейма.
В течение некоторого времени до своего отъезда из Варшавы король довольно часто призывал меня к себе, чтобы узнать мое умонастроение. В одной из наших бесед я осмелился спросить у него, какое решение он примет и не считает ли необходимым составить некий план действий, чтобы противостоять угрозам российского посланника и сохранить честь, свою и всей нации, – то есть не принимать ни единого предложения, имеющего характер унизительного для сейма, который он должен был созвать.
Я старался пробудить в нем самолюбие и напомнил ему об обещании, произнесенном перед лицом всей нации, – защищать родину и конституцию даже ценой собственной жизни. При этом прибавил, что речь не идет о столь большой жертве и что самый большой для него риск – это потерять корону, за которую он явно не держался, потому что уже предлагал передать ее в руки императрицы Екатерины. Я убеждал его, что если бы он сумел проявить мужество, энергию и твердость, то угрозы даже такой монархини не имели бы последствий, так как не было никаких законных причин лишать его королевского достоинства.
Я обратил его внимание на то, что Пруссия играет во всем этом второстепенную роль и лишь подстраивается под намерения России, тогда как венский двор держится отстраненно и никогда не согласится на уничтожение королевской власти в Польше именно тогда, когда вся Европа вооружается, чтобы восстановить монархию во Франции. Я уверял короля, что если он доверится нескольким лицам, на которых может положиться, и, прежде чем покинуть Варшаву, наметит план действий, который и начнет осуществлять с первого же дня работы сейма, то он добьется всех желаемых результатов.
Как я предполагал, королю следовало открыть заседание заявлением, что физические силы нации действительно истощены и не могут оказывать сопротивление превосходным армиям, занимающим страну. Национальный же характер и моральная сила не могут быть сломлены ударами штыков – он сам убежден в этом и, поддержанный благородными чувствами всего высокого собрания, не примет и не подпишет никакого предложения, унизительного для соотечественников, и уверен, что его примеру последуют все, кто его окружает.
И наконец, я дал ему самые положительные заверения, что если он последует этому совету, то не будет ни одного сенатора, или министра, или представителя нации, который не поднялся бы, чтобы аплодировать королю и разделить его мнение. Такое заседание стало бы самой памятной вехой его правления.
Король, казалось, был живо тронут моими словами. Он, по видимости, был убежден этими доводами и одобрял их. В тот момент, когда я закончил говорить, было объявлено о приходе двух великих маршалков, Короны и Литвы, Мошинского и Тышкевича (я предупредил их об этой своей беседе с королем, но они были приглашены королем по другому поводу), и они были введены в кабинет. Этим двум министрам, известным своими принципами, честностью и преданностью монарху король передал мои слова, которые хорошо запомнил: он повторил почти слово в слово то, что я только что ему говорил. Он был удивлен, увидев, что они разделяют мое мнение. Но затем, похвалив мое рвение, он сказал: «Бог – свидетель чистоты моих помыслов, мне не в чем себя упрекнуть. Несчастья, угнетающие Польшу, погружают меня в тоску и сокращают мои дни, которые я не могу посвятить тому, чтобы быть ей полезным… В любых других обстоятельствах проект графа Огинского (который, в общем, делает ему большую честь) мог быть хорош. Но, в конечном счете, каков был бы результат такого моего бахвальства, которое не приличествует ни моему возрасту, ни моим слабым силам, истощенным постоянными трудами и печалями?»
Я не смог, помимо своей воли, скрыть неприятное впечатление от этого ответа короля: он признавался в своей обычной слабости и в том, что принял бесповоротное решение сделать все, чего от него требовали. Я оставил без внимания его высказывание о «бахвальстве», которое прозвучало неуместно, но, прежде чем покинуть его кабинет, возразил ему с живостью: «Вы спрашиваете, Государь, каков был бы результат того демарша, о котором я говорил. Я Вам отвечу со всей искренностью: он смыл бы пятно, которым Вы замарали себя, присоединившись к Тарговицкой конфедерации, вместо того чтобы стать во главе нации и ее армии, которая горела желанием сражаться за свою конституцию и неприкосновенность своих границ. Он вернул бы нации, в глазах всей Европы, ее славу и честь: если бы во главе ее стоял человек, способный ее направить, то он не позволил бы никому подчинить ее. Сердца всех поляков обратились бы к Вашему величеству, и Вы нашли бы в них то же доверие, ту же любовь и ту же благодарность, которые были в них 3 мая».
«Вы правы, – возразил мне король. – Но разве это помогло бы уладить наши дела? Неужели вы думаете, что если бы я поступил так, как вы мне советуете, то мы смогли бы предотвратить раздел Польши?»
«Да, Государь, – сказал я ему, – я в этом почти уверен, так как единодушие сейма в ответ на энергию и твердость главы нации опрокинуло бы все дипломатические расчеты и поставило бы представителей Пруссии и России в затруднительное положение. Если бы мнения разделились, они могли бы еще надеяться извлечь для себя пользу из оппозиции, – но кто решился бы открыть рот после Вашей речи и после того, как Вы предложили бы себя в качестве примера и, может быть, даже жертвы своей любви к Родине? Я слишком хорошего мнения о своих соотечественниках, чтобы поверить, что среди них могут быть предатели своей родины.