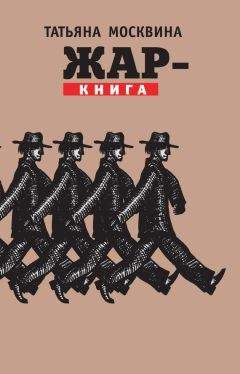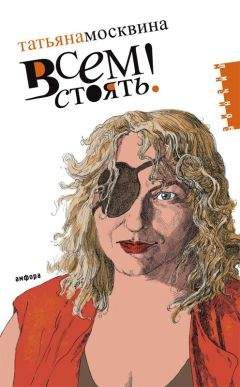Она. Ну, это имя теперь не слишком популярно.
Он. Когда меня крестили, было еще популярно.
Она. Вы в своей пьесе смеетесь… Мне было как-то неловко. Все-таки…
Он. Над царской семьей, в «Мандате»? Мне говорили. Но я же не над ними смеюсь, Лина. Над обывателем! Над его безумной любовью к начальству. Все равно какому! Царь так царь, партия так партия, им же безразлично. Ведь глазом не моргнули – приспособились! Все приспособились!
Она. И мы тоже.
Он. В каждом из нас, что бы мы о себе ни воображали, в любом гении сидит маленький обыватель.
Она. Может быть, вы правы. Но бывают в жизни такие времена, когда этот обыватель куда-то пропадает. Вот, например, сейчас мой маленький обыватель, который бубнил мне о том, что пора домой, совсем притих.
Он. Мой-то давно онемел. (Целует ее.)
Она. Николай Робертович!
Он. Ангелина Иосифовна!
Она. Коля…
Он. Поедем завтра на бега? Поедешь со мной?
Она. Ты играешь на бегах?
Он. Играю ли я на бегах! Я самый известный в Москве долгоиграющий проигрыватель!!
Человек-примечание. Допустим, так. А может быть, иначе. Кто знает, как и о чем говорили эти молодые, безразмерно талантливые люди в своем баснословном двадцать восьмом году. Жизнь кипит и расцветает, обещая чудеса: Степанова – любимица Станиславского, пьеса Эрдмана «Мандат» гремит в постановке Мейерхольда. Драматург считается «самым остроумным человеком в Москве». А Москва – театральной столицей мира!
Он. Мы были почти счастливы.
Человек-примечание. Почти?
Он. Для таких людей, как мы, почти счастье – это уже очень большое счастье.
На бегах.
Человек-примечание… Гравий, Провинциалка, Топаз, Евгеника, Осса, Девора, Спалена-Кафа, Сермяга, Ваня-шеф…
Она. Коля, а кто из них Провинциалка?
Он. Вторая слева, жокей Сеня Ситников. Да ерунда эта Провинциалка, ты смотри на первую справа – это сама Спалена-Кафа.
Она. А в чем разница? Лошадки как лошадки.
Он. Потрясающее рассуждение! Вот я приду к тебе в театр и скажу – и что это вы носитесь со своей Степановой? Какая вообще между актрисами разница? Актрисы и актрисы… Пошла, пошла, родная! (Свистит.) Вперед! Ка-фа! Ка-фа! На голову обошла, умница, умница!
Она. А мне жалко ту маленькую. Она старалась…
Он. Вороную жалко? Это Евгеника, бедняга. У нее на ноге рожа. Говорят, и у Гравия тоже, а он фаворит.
Она. Зачем же их больных выпускают на дерби?
Он. Ты не знаешь бега! Тут такое надувательство! И есть свои военные хитрости. На прошлой неделе Цветков нарочно придержал Кафу, чтоб никто не понял ее класса. Но я-то понял, меня не проведешь! Я знаю толк в лошадях – и в женщинах.
Она. Почему же ты вечно проигрываешь?
Он. Потому что… я слишком люблю играть.
Она. Я на бегах! Невероятно… Коля, ты знаешь, у тебя все эти бега – на лице происходят, я на тебя смотрю чаще, чем на арену. Ты как соль – с тобой все становится вкусным…
Он. То-паз! То-паз! Да что ж это такое… Нет, бездарный жокей способен превратить гениальную лошадь в какого-то сонного верблюда!
Она. А лошадь радуется, когда приходит первой? Она это понимает?
Он. Лошадь понимает все. Скаковая лошадь в сравнении с простыми лошадьми – это как Степанова среди обыкновенных актрис.
Она. Или как Эрдман среди советских драматургов.
Он. Последний заезд – и немедленно в ресторан. Я должен тебя откормить хоть немножко. Я не могу смотреть на эту фигуру без рыданий.
Человек-примечание. Вначале они встречались тайно, в Москве и тех городах, где проходили гастроли Художественного театра. Во всяком случае, в своих письмах Эрдман упоминает, к примеру, Харьков.
Он. Я никогда не забуду ваших слез и ваших улыбок. Я никогда не забуду Харькова.
Харьков. Гостиница. Утро.
Она появляется в номере со стаканом чая в руках.
Она. Ваш чай, мсье.
Он. Я не заметил ночью, как ты исчезла.
Она. Потому что я таинственно исчезла.
Он. Ты моя смешная худенькая птица. Птенчик. Пинчик… Длинноногий Пинчик, таинственно исчезающий ночью.
Она. Коля, ты не думай, что я мещанка и заражена ханжеской моралью, но я не могу выставлять мир своих чувств, свою личную жизнь всем напоказ.
Он. Весь театр знает, по-моему…
Она. Не знает, а догадывается. Нет, это должно быть только мое и только твое.
Он. Это-это, это да то, то да се, такое-сякое…
Она. Пятое-десятое…
Он. Вот! Будем называть это – «пятое-десятое»… Кстати, и для конспирации хорошо.
Она. Пей чай, Коля. Кстати, о конспирации. Я думаю, мне придется уйти от Горчакова. Он пишет мне грустные и нежные письма, но разрыв между нами становится все больше. Он прекрасный, в сущности, человек, но есть в нем что-то от добросовестного слуги… А я не барыня и не люблю командовать слугами… Ты привез пьесу? Почитаешь мне?
Он. Если тебе не надоела моя беспримерная дикция…
Она. Что ты! Она очаровательна, ей подражают. Ты заметил, что Эраст Гарин буквально перевоплотился в тебя? Он копирует твои жесты, твою походку, твои паузы, твои интонации…
Он. Гарин-то ладно, а вот на днях какой-то картавый голубь в белом костюме разгромил бильярдную на Стромынке под тем предлогом, что он Николай Эрдьман и у него есть «Мандать»! Хорошо, моя артисточка, будет тебе новая пьеса.
Она. Название так и осталось – «Самоубийца»?
Он. Конечно. Все великие пьесы называются одним словом. «Гамлет». «Тартюф». «Ревизор». «Лес»…
Она. Ты только объясни – кто будет ставить, Станиславский или Мейерхольд?
Он. Оба.
Она. Как это?
Он. А вот так, Пинчик! В Москве будет не один «Самоубийца», а сразу двое!
Она. Чтобы Станиславский и Мейерхольд ставили одновременно одну и ту же пьесу? Не может быть.
Он. Мы, авторы, народ легкомысленный, наше дело писать да гонорары получать, а режиссеры пущай промежду себя разбираются… ну, слушай.
Она. Тут диалог? С женой? Давай я за нее почитаю.
Он (читает пьесу, в роли Подсекальникова). Маша, а Маша! Маша, ты спишь, Маша?
Она (читает пьесу, в роли Марии Лукьяновны, жены Подсекальникова). А-а-а-а…
Он. Что ты, что ты – это я.
Она. Что ты, Семен?
Он. Маша, я хотел у тебя спросить… Маша… Маша, ты опять спишь? Маша!
Она. А-а-а-а…
Он. Что ты, что ты – это я…
Она. Это ты, Семен?
Он. Ну да, я.
Она. Что ты, Семен?
Он. Маша, я хотел у тебя спросить…
Она. Ну… Ну, чего же ты, Семен… Сеня…
Он. Я хотел у тебя спросить… что, у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?
Она. Чего?
Он. Я говорю: что, у нас от обеда ливерной колбасы не осталось?
Она. Ну знаешь, Семен, я всего от тебя ожидала, но чтобы ты ночью с измученной женщиной о ливерной колбасе разговаривал – этого я от тебя ожидать не могла… (Смеется.) Коля, смешно!
Он. Да ты дальше читай. Это разве смешно, вот дальше будет смешно так смешно… Особенно наше правительство обхохочется…
Человек-примечание. Степанова ушла от мужа и поселилась в квартире своей подруги, актрисы Елены Елиной, Елочки. А пьесу о том, как смирный безработный Семен Подсекальников решил застрелиться, потому что при советской власти никому жизни нет, – даже тишайшему обывателю, – не поставил ни Станиславский, ни Мейерхольд. Она была запрещена. Пьеса «пустовата и вредна» – так отчеканил товарищ Сталин.
Он (читает из пьесы). «Помните, что интеллигенция соль нации, и если ее не станет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили». Ялта, «Ореанда», Ангелине Осиповне Степановой. Я очень люблю Твои письма. Ты умеешь делать их похожими на себя, и поэтому кажется, что Ты приезжаешь сама, запечатанная в конверте… Два дня назад Бубнов прислал Мейерхольду бумагу о запрещении работы над «Самоубийцей». В театре паника… Для меня это катастрофа не авторская, а человеческая.
Москва, квартира Елены Елиной.
Она. Неужели Луначарский ничего не может сделать? Что он сказал?
Он. Сказал хорошие слова. Не чиновничьи. Ну и что? И Горький читал, и кто только не читал. Все хвалят – а пьеса лежит мертвая. Я начинаю думать, что дело совсем не в Главреперткоме. Запрет идет сверху.