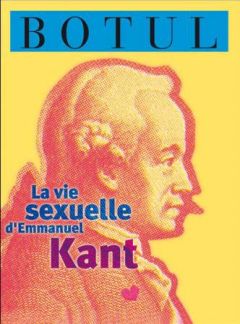Александр Корольков анализирует важное отличие русской философии и культуры в целом от западноевропейской, базирующейся на последовательном рационализме. «Русская философия, пишет он, – это поэзия мысли, реализованная в соединении глубины смысла и совершенства формы, это чувственно-просветлённая стихия мысли и стихи мыслей. Отсюда, в частности, такое удивительное явление, как тождество философа и писателя». В этом контексте учёный приводит имена Достоевского, Толстого, Хомякова, Константина Леонтьева, но в книге ими не ограничивается. В главе о великом нашем композиторе Георгии Свиридове, о его литературном наследии, Александр Корольков говорит, что оно продолжает тот особый род русской литературы и философии, который хорошо известен «Дневником писателя» Ф.М. Достоевского, «Окаянными днями» И.А. Бунина, «Нашими задачами» И.А. Ильина.
Разумеется, невозможно охватить весь материал книги, ограничимся тремя разнородными фигурами – Ивана Ильина, Андрея Платонова и Георгия Свиридова. «Для меня Ильин, – говорит автор, – самый цельный русский философ, может быть, олицетворение русскости в философии. Он как никто другой глубоко проник в тайну русского сердца. Ильин, по-моему, понял, что такое русская идея. Он писал, что остаться перед ликом Божиим народу самим собой, это и есть русская идея, не побираться у чужих окон, не смотреть, как там у них, за забором. Хранить свою культуру».
Из писателей особое внимание автор уделяет Андрею Платонову. «Проза Андрея Платонова, – считает он, – это образная философия парадоксальности русской жизни, трагизма исковерканных идеалов[?] Андрей Платонов – самый парадоксальный писатель современности: сколько бы ни упражнялись модернисты в вымученной оригинальности идей, событий, образов, ничего подобного парадоксальности Платонова им не удалось добиться. Александр Корольков решительно не согласен с теми, кто находит какое-то сходство творчества Платонова с авангардистским искусством живописца Филонова, а также французских писателей А. Камю, Ф. Саган или Ж.П. Сартра.
В главе о великом композиторе автор пишет: «Свиридов был русским интеллигентом, а не российским, он чётко и чутко чувствовал, что подлинное в культуре всегда национально, будь то хоровая народная музыка, сочинение профессионала-композитора, литература или живопись. Модернизм, антитрадиция, презрение к преемственности в культуре для Свиридова – синонимы разложения, агрессивной наглости, бездушия и бездуховности».
Александр Корольков приводит гневные слова Свиридова о псевдоинтеллигенции, он ещё за четверть века до «капитализации» нашей страны писал о лавочном, коммерческом духе господствующих веяний в музыке, поэзии, но считал при этом, что «дело не в коммерции, а во власти над душами людей, над миром». Эта псевдоинтеллигенция должна быть довольна итогами ХХ века, который, как с горечью замечает автор, «прошёл под знаком попыток отказаться от национального своеобразия. Значительная часть человечества была под гипнозом идей интернационализма, верила, что наступит всеобщее братство, когда различия между нациями сотрутся, исчезнут. А в конце ХХ века расцвёл новый соблазн – глобализм, который затронул не только материальную сферу жизни людей (где он отчасти мотивирован, оправдан), но и сферу культуры. Под угрозой оказались национальные культуры».
Но самое интересное в этом разделе книги – это, как представляется, анализ суждений А.С. Пушкина по данной проблеме. Александр Корольков приводит редко публикуемую оценку Радищева, данную великим поэтом: «Он есть истинный представитель полупросвещения… Радищев думал подражать Вольтеру, потому что он вечно кому-нибудь да подражал. «Путешествие в Москву…» очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге… Самое пространное из его сочинений есть философическое рассуждение «О Человеке, о его смертности и бессмертии». Умствования его пошлы и не оживлены слогом».
«Пушкин психологически тонко подметил, – пишет Александр Корольков, – появление молодёжи, готовой отвергать всё традиционное, отеческое, родное «по тому самому чувству, которое заставило (Радищева) бранить Ломоносова: из отвращения от общепринятых мнений», ибо «соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями».
Завершает главу автор мудрым и язвительным советом: «Всем правителям России, экономящим на образовании, культуре, следовало бы иметь перед глазами в собственном кабинете предостережение А.С. Пушкина: «Одно просвещение в состоянии удержать новые безумства, новые общественные бедствия».
Полемизировать с Ивантером по поводу его заметки - даже по одному названию глупой и бестактной – о поэзии классика современной отечественной литературы Алексея Цветкова я считаю делом абсолютно бессмысленным, к тому же уже высказанные читателями, принявшими эту писанину за чистую монету, мнения, в том числе и опубликованные в "Литературке", исчерпывают весь возможный спектр представлений о предмете. Цветков – фигура в последние годы настолько публичная и масштаб его личности и творчества настолько очевиден, что единственное, чего бы я хотел добиться написанием этого комментария, – так это попытаться объяснить подлинные мотивации автора заметки тем читателям, у которых вдруг до стихов Алексея Петровича ещё руки не дошли, а вера в газетное слово сохранилась.
В лучших традициях советской литературоведческой школы Ивантер 42 раза повторяет слова «русский» и «Россия». Уже от одного этого шаманского причитания можно было бы лишиться дара речи. Основной пафос направлен против цветковского как бы антипатриотизма и чуть ли не измены родине. В действительности всем, кто знаком с творчеством Цветкова и хоть чуть-чуть знает его самого, трогательной доброты и редкой деликатности гуманиста-философа, очевидно, что трудно выбрать для критики в подобном ракурсе более неудачный объект.
Автор – это тот самый Ивантер, в котором 30 лет назад ещё ничего не предвещает нынешнюю обласканность газетой «Завтра», Станиславом Куняевым, покойным Ревичем, ненавидимым Куняевым Евгением Евтушенко и прочими «Серебряными Дельвигами». Ивантер, который в начале 80-х общается с мудрым В. Барласом – переводчиком и литературоведом; не читает – пьёт запоем! – стихи Бродского; дружит с Лёвой Волохонским и другими диссидентами-отказниками; поддерживает крепко сидящую в лагере киевскую поэтессу Иру Ратушинскую; собирает тёплые вещи для отправки политзаключённым в Мордовию; не признаёт над собой ничьей чужой воли – ни родителей, ни государства – и пишет действительно очень недурные стихи. Но режим как-то довольно быстро пал, политзэки вернулись по домам, и правозащитная деятельность, потеряв романтический ореол, вдруг стала неактуальной.
[?]Увяли и давно не являются «народными трибунами» литературные газеты, поменяли цвет и стали памятниками самим себе «толстые» литературные журналы, хотя теперь, говорят, там иногда печатают хороших поэтов... Всё лучшее, однако, доступно в Сети задолго до этих публикаций, и для кого они – остаётся загадкой. Такие артобъекты для тактильных ощущений, дань традиции. Почему бы и нет?
Но когда в одной из этих вполне почтенных мумий – «Литгазете», которую я последний раз в бумажном виде держал в руках лет 25 назад, вдруг всплывает… такое... в казалось бы, навсегда уже забытых кожиновско-куняевских интонациях и терминах – молчание действительно становится разрушительным.
...Якобы купившись-поведшись на вполне постмодернистское – т.е. заведомо провокационное (в хорошем смысле – для понимающих!) – интервью самого Цветкова «Новой газете», наш герой сворачивает и разворачивает диалектические спирали, объясняя нам, убогим, «с чего начинается Р-р-родина». Прямо-таки с комсомольским задором лягает «космополита-отщепенца» за атеистическое мировоззрение, сетует (цитируя) на соседство в одной «довольно разношёрстной компании»... Бродского, Сопровского, Проффера и самого автора... Выглядит это натужно, убого и как-то удивительно провинциально, особенно когда не к месту приправляет он свою речь малоиспользуемыми старорусскими словечками и оборотцами: «духмяный», «слёзный дар», «малую толику»...
В якобы страстной филиппике Ивантера о Цветкове нет абсолютно ничего, на что следовало бы обратить хоть какое-то внимание. А наблюдаемая нами устойчивая искажённая интерпретация смысловых образов, когда автор говорит о поэзии Цветкова, – это своего рода диагноз – головы или совести, утверждать не берусь, но факт не подлежит сомнению: если не душевная болезнь, то зависть к более талантливому современнику движет его как бы «вдохновенным» пером. В любом случае не о достоинстве и чести русского народа печётся наш герой, спуская с цепи своего внутреннего ротвейлера. Не исключено, что он просто не понимает в поэзии.