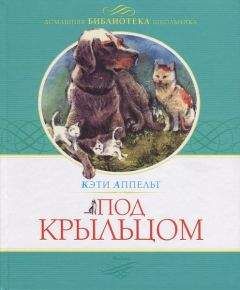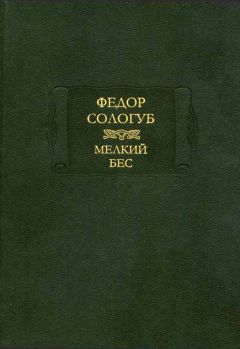— По 129-й статье судить будут! — с гордостью сказал Матвей.
— А какие книжки? Заглавия не знаешь?
— Заглавие: «Капитализьма»… — сказал он неуверенно, вскинув глаза вверх: — книжки-то хорошие, да надо бы подальше их прятать… Их штук восемьдесят было у него, — все искурил. И сам курил, и люди курили. Конечно, язык-то у них
и раньше того шел, да молчали. А вот нашелся-таки злодей Иуда в своей же семье… Отец и со двора выгнал его, да что после время… без толку…
Поговорили о книжках, о газете. Газету хорошо бы читать, да мудрено собрать денег на нее. Во время войны выписывали в складчину «Военный Голос», всей улицей читали. Ныне уж этого нельзя: соберется где два-три человека, — уж стражник похаживает возле, прислушивается. Единственное место, где беспрепятственно собираются, тайный шинок Цукамихи… Но там мудрено воздержаться от выпивки.
— Ее ежели с умом пить, — ничего, много не пропьешь, — резонно рассуждает Лактион: — выпил одну-другую и — тпру!..
Третьего дня, к вечеру, собрался дождь, помешал работам. Я думал, что артель разойдется сейчас же по домам, — у всех были семьи. Нет. Собрались в неотделанном еще амбаре, курили, пели песни. Потом сложились по пятачку, и Афонька Беловой, самый молодой рабочий в артели, сбегал в монополию. На песни пришли с гумен Муравин, Иван Шорш. Не знаю, по скольку глотков из бутылки пришлось на каждого участника, но говор, смех, песни в амбаре стали громче, голоса звучали весельем и беззаботностью, временами слышался даже неистовый топот и дробный стук, — значит, танцевали на несбитом полу амбара. Иван Шорш неожиданным для меня, сильным, разливистым голосом заводил песни, и было диковинно, что голос этот принадлежал отощалому человеку, обычно понурому, вздыхающему, согбенному нуждой. Что-то весело выкривал в такт песне Лактион. Шумно толклись и жужжали помолодевшие голоса. До полночи из амбара неумолчно неслись раскаты веселого смеха, пения, громкого говора, толчея весело возбужденных голосов…
Слушал я ее издали, — несомненное веселье, беззаботное и увлекательное, звучало в ней, — слушал и представлял себе этих людей, перед которыми теперь каждый день должен был вставать вопрос: чем будем и будем ли обедать завтра? — каждый день нес боязливую и гнетущую мысль о бесконечной цепи всяческих недохваток, о неизбежном надвигании голода и холода… Слушал я и спрашивал себя, откуда этот неиссякаемый запас способности весело, бездумно, беззлобно воспринимать жизнь, предавая забвению ее обрыдлые и удручающие подробности? Неужели только от одного-двух глотков из бутылки-краснологовки?..
Как ни осторожны мы были в своих вычислениях, как тщательно ни урезывали расходные статьи, в итоге, даже выкинув расход на спиртные напитки, мы получили сумму, придавившую нас своей громадностью: 121 руб. 44 коп. годового расхода на человека. Если не считать одинокого Матвея и двух Афонек, которые жили при отцах, у каждого из артели Лактиона была семья не менее четырех человек. Приходная статья у большинства была одна единственная — заработок. Получали у Лактиона помесячно от 10 до 12 руб. У Маметкула и у «японского победителя» Ремезова была еще земля — казачьи паи, дававшие им в год рублей 50 арендной платы. Из остальных один Лактион мог похвалиться земельным клочком в ¾ десятины.
Полученный итог привел нас в уныние. Как же быть, раз для семьи в четыре человека, у которой один лишь добытчик, а остальные едоки, — необходимо около 500 руб. в год, а весь заработок не достигает и 150?
— Как же вы изворачиваетесь?
Общее недоумение… В самом деле: как?
— Да вот… живем… По теплу-то ничего: и работы много, и шуб не надо… А вот зима страшит…
Помолчали, словно задумались о зимнем времени.
— Тем народам хорошо, где зима не бывает, — вздохнул Лактион.
— Там народ, гляди, вовсе ленивый? — спросил Герасим: — еды ему против нашего меньше требуется, дома’ — тоже малые…
— Наш народ крепше, — гордо сказал Лактион: — он вспомнит про зиму — а, мол, шубу надо, валенки надо. Он и хлопочет…
— А, небось, бедных и там много? — спросил «лобовой» Филипп.
— Сколько угодно.
— Диковинное дело!..
Опять долго молчали. Куда ни кинь, даже в благословенные теплые земли, где нет надобности хлопотать ни о шубе, ни о дровах, ни о валенках, — все-таки та же роковая неправда: бедные и богачи, угнетаемые и господа.
— Вот китайцы — уважительный народ, — сказал «японский победитель» Ремезов: — доверчивый народ… Живут бедно, а тихий народ. Наши к ним же пришли да над ними куражились…
— За то-то и поучили вас японцы, — заметил Филипп.
— Антон все-таки отрубил одному ногу, — засмеялся Маметкул: — спрашиваем его: а голову что же не рубил? — «Да головы не было»…
Добродушно посмеялись над «японским победителем». Но чувствовалось все-таки что-то грустное и щемящее в этом смехе, точно вспоминался великий позор, огромные жертвы, кровь и явное сознание безнадежности и бесплодности затрат народной энергии… Были надежды, — и нет ничего… Опять у наиболее счастливого — лишь ¾ десятины и ничего иного в перспективе.
— У меня племянник вернулся без руки с войны, — сказал Лактион: — а дома нет ничего и никому не нужен… Спрашивается: чем же ему правдаться?..
Никто не ответил. Вопрос был чисто риторический.
— А уж оно идет-идет да дойдет, — значительным голосом прибавил Лактион.
— Ничего не дойдет! — решительным тоном сказал Маметкул: — одного за другим на шворку перетаскают, вот и все. А энти дети будут прятаться, лишь бы их не заметили… Былое дело!..
— Как же быть-то?
— А так и будут, как были… Наш народ веревкой за шею привяжи, — и то не забунтует… Вот вопрос!..
Маметкул победоносно мотнул головой. Лактиону, видимо, хотелось возразить, но он был удручен этим уверенным тоном человека, который сам принимал когда-то участие сперва в черносотенных погромах, а потом — в военных беспорядках, и был судим военным судом. За Маметкулом числился авторитет испытанного человека. И Маметкул это чувствовал.
— Скорее бичевку на шею наденет народ, — повторил он: — чем станет на свою защиту. Это ведь нужно, чтобы все как один были…
— Да она доходит эта точка! — неуверенно сказал Лактион.
— Где? Разве народ уравняешь? Самые главные, какие кадило раздували, — те давно уже на шворке, а прочие все — в кусты… Послушаешь теперь: широкоперится иной на словах, а что толку?..
Маметкул безнадежно махнул рукой.
— Волнование, конечно идет в народе, — подумав, сказал он колеблющимся тоном.
— Идет! — уверенно подхватил Лактион.
— Но какое количество? Надысь Алешка Гулевой приходит пьяный: «Аким! бросаю жену и детей, иду к революционерам… До коих пор мы будем так страдать»? — Я говорю: «что ж мы с тобой двое сделаем, малым количеством? На это надо большое количество… Ты сам знаешь»… Он был, конечно, в минерах, бунтовали там… А Иван Мыльцын в Херсонском полку служил, усмирял его, Алешку… Так вот оно: нашего брата перемитусят да один на другого…
Наш разговор оканчивается на безнадежной ноте. Но я вижу по лицам принявшихся за работу плотников, что у каждого кроется где-то внутри упорное ожидание перемены, непотухающая искра упования на что-то туманное, смутное, неопределенное, но сулящее иные перспективы, более сносную жизнь, чем проклятая теснота, переживаемая теперь. Может быть, и раньше она была не легче, но почему-то особенно тяжко давит на плечи она теперь, после того, как пролетевшая над землей буря оголила от пугающих покровов то, что считалось свыше освященным и неприкосновенным, и приоткрыла давно в мечтах взлелеянную, обетованную даль…
Маметкул тешет дубовые столбы недалеко от меня и неторопливым голосом, спокойно и обстоятельно, рассказывает о своей службе в мобилизованном для охраны внутреннего порядка полку.
— Служба была добычная, нечего говорить…
— И работа чиста, не запылились, — замечает с благожелательной иронией Матвей: — иные здорово поправились… с деньжонками попришли…
— Да, кто принес и денег, а я умудрился долгу 10 рублей принесть, — сказал Маметкул, отбивая шнуром прямую линию на столбе: — взято было много, правду сказать, на несколько сот, да побочина-то моя все размотала…
— Сарка? — подсказал Матвей.
— А то черт, что ль!
— Ишь подлюка!
— У Савельева в лавке сейчас щиблетных заготовок амбурских — рублей по полтораста моего приобретения….
— Эх, годились бы теперь…
— А сколько там я одел и обул людей босых да раздетых?.. — воскликнул с гордостью Маметкул: — был я в ихней комиссии за самого главного покровителя. Поставят, скажем, на караул — охранять магазин ли, лавку ли, — ну вот и ведем их: выбирайте! примеривайте!.. Конечно, спешка… Вскочишь, наденешь: в зеркалу! раз, два — готово!..