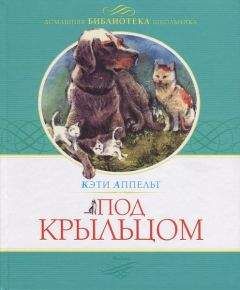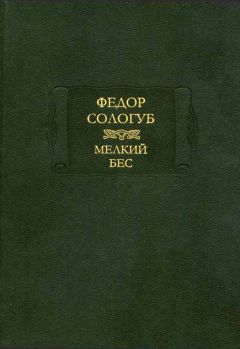— А сын чего смотрит? Ведь это закону нарушение! — строго говорит «японский победитель».
— Да он сына-то ни к чему произвел… Вроде дурачка сделал… Ночь подходит, он сейчас велит ему: веди коней в луг… А то: поди на бахче заночуй… На поле проводит, на мельницу… Дома-то ему минуты не дает побыть…
— Сопляк он, а не казак, сын твой.
— Не[9] боек, нечего… А все жалко. Пришел надысь ко мне раздетый, оборваный, — купила ему на рубахи, на поддевку. Внук риялист заехал: «бабушка, на книжки вот не хватает»… Достала последнюю пятерку, отдала…
Безотрадная участь кривой Ивановны наводит нас на разговор о сравнительной виновности мужчин и женщин в человеческих нестроениях. Матвей, потерпевший от женской неверности, обвиняет во всем женщин. Он с необычайным азартом наседает на кривую старуху, представляющую в данный момент перед нами всю прекрасную половину человеческого рода.
— Бабы — первое зло на свете! Водка да бабы… — говорит он с глубоким убеждением в голосе: — Иван Златоус сказал: что, говорит, в свете льва злее, змеи лютее? — Баба!
— Кабы у тебя баба-то была, был бы и ты человеком на белом свете, — возражает Ивановна.
— Я и так человек!
— Не человек, а омрак… Звание одно, что человек…
— Вы возьмите то во внимание, — обращается Матвей больше к публике, чем к высокомерно третирующей его Ивановне: — теперь вот у Никишки Бычка жена ушла… Толкнул, дескать… Эка важность: вдарил! Кого же и бить, позвольте узнать, как не жену? У нашего брата только и подчиненных, что жена, да и не трошь ее? Извольте радоваться! все бросила без предела, ушла… Поневоле запьет человек.
— Он ей в трех местах голову проломил…
— Не в тринадцати-ли? Теперь слово-то скажешь бабе, — сейчас фырк! — и со двора… Евсеич на что уж смирный человек! У него бы не жить снохе? Ушла. Вешается по работницам.
— А как жить-то, — спроси! То сам лезет, то деверь…
— У Бородкина опять супруга на что польстилась? Хохлишка-прасол проезжал, сманил: поедем, — говорит, — со мной, я тебе зонтик куплю, будешь сидеть, ничего не делать, — пей чай с пряниками да сиди под зонтиком… Уехала…
— Да уж ей жизнь была, не приведи Господи! На собаке столько побоев не было, как на ней. Раз при мне он за немногим ее не задушил: давай деньги! А и денег-то всего два рубля было… Ну дать — пропьет!.. Впилась обеими руками в кисет, замерла на нем, а он душит… Тут не то за зонтиком, — за зипуном уйдешь!..
Каждое конкретное указание Матвея на зловредность, коварство и неверность женской половины Ивановна энергично опровергает раскрытием подлинных причин семейного развала, и в ее изображении бабы всегда страдающая сторона.
— Вон Машка — уж на что бойкая была, а пришел муж со службы, свернулась как!..
— Плеть-то матушка она свернет… По заслугам и чин дается…
— Свернулась… Бывало, скажешь ей: «Машка, потише будь! не всем давайся! От этого не разбогатеешь»… Она и слухать не хотела. Мужу придтить, она и говорит: «лишь бы ему ко мне нагнуться, а мне за мою волюшку можно отдуться»…
— Не нагнулся, видно?
— На первую-то ночь нагнулся, а на другую всю плеть измочалил, на третью — тоже… И по сих пор…
— Она — бабочка маштаковатая, — спокойно заметил Маметкул: — выдуется…
— Надысь на улице, — смеясь, сказал «лобовой» Филипп: — ребята спрашивают: ну как, Маня, отдуваешься? А она подняла юбку с рубахой и говорит: «глядите, чего он, сукин сын, сделал с моим белым телом!..» Все тело в рубцах да в синяках…
Явление старое: женская драма, развал семьи. Мысль достаточно привыкла к нему, чтобы не удивляться женским стонам, человеческому одичанию, жестокости и малой ценности жизни в глазах деревенских людей. Но когда эта драма развертывается даже в отрывочной передаче равнодушных свидетельских показаний, невольно останавливаешься в изумлении перед ее всегда жестоким содержанием и страшными подробностями.
Браки в наших местах — очень ранние, по хозяйственным соображениях. Почти все женское население — каза’чье — в самые цветущие, молодые годы проходит через искус безмужнего житья, — за время пребывания мужей в полках, — житья, полного мытарств и соблазнов, всюду подстерегающих: на улице и дома, в поле и в лесу, в каждом закоулке, на каждом шагу, — житья, по традиции считающегося вольным и греховным. Потом расплата: возвращается муж, и какова бы ни была жизнь «жолмерки» (испорченное польское слово: жолнерка — солдатка), шумна ли и греховна, тиха ли и безупречна, — жолмерка, уж для порядка только, непременно подлежит «бою». И жестоко бывает это бабье обучение…
С летами грехи молодости, конечно, предаются забвению. Супруги сживаются, плодят детей, работают над созиданием хозяйственного благополучия. Тут, если и происходит бой, то на почве укрепления и ослабления этого благополучия. Муж дольше хранит в себе легкомысленные наклонности и не прочь урвать кое-что из хозяйства на выпивку. Жена ограждает приобретения долгого и тяжелого труда от этих покушений. Отсюда — бой. По большей части кровавый. Деревенский воздух оглашается отчаянными воплями, криками, крепкими словами. Деревенская публика в достаточном комплекте занимает места, отведенные для зрителей. Деревенская полиция — в исключительных случаях, — что-то царапает пером на серой бумаге. А через день, через два спектакль одинакового содержания повторяется в другом месте.
В иных случаях, как эти ни изумительно, в этих бурных стычках оказывается в страдательном положении и мужская половина. Чтобы не быть голословным, приведу свидетельства из дел нашего станичного суда. Вот, например, жалоба одного обиженного супруга:
«Жена моя нечаянно подбежала с дрюком и ударила меня дна раза в голову и нанесла мне на голове тяжкие бугровые побои, от которых я долго страдал. Станьте, господа судьи, в мою защиту»… и т. п.
Стон обиженного супруга носит, может быть, несколько увеселительный характер, но, несомненно, это все-таки стон…
«Жена моя», — гласит жалоба другого пострадавшего от супружеского задора мужа: — «в присутствии посторонних называла меня пьяницей, гармошником, гусятником, схватила меня за ногу и стащила с меня шаровары. Прошу станичный суд привлечь ее к уголовной ответственности за обличение и конфуз»…
Как ни расходимся мы с Ивановной во взглядах на женский вопрос, личная ее безотрадная судьба все-таки во всех нас вызывает самое искреннее к ней сострадание. Мы обсуждаем, как поступить с неверным супругом. Юридически он неуязвим. Но с общего совета, мы решаем попробовать оттягать у него полупай земли на содержание нашей обиженной собеседнице.
Близится вечер. Опять заходит Муравин. Закуривает. Вздыхает:
— Пшеница, как озадки… И чего будем есть? — говорит он.
— Летошней подсыпай, — доброжелательно советует Матвей.
— Да! Подсыпай! Летошняя вся по семи гривен за пуд Парамонову пошла…
— На плюшки-рюшки, веечки-подбеечки? — иронически замечает Лактион: — а ты бы берег… дом-то о трех теплых не взбадривал бы… А то под железо залезть захотел? Так-то оно вашего брата…
Муравин виновато вздыхает, молчит. Лактиону менее, чем кому бы то ни было, пристало давать советы благоразумия и предусмотрительности: сам он — воплощенная беззаботность и широкая натура. Но он был так рад случаю почитать мораль, что совсем забыл о собственных слабостях, и учительным тоном продолжал:
— Вам, казакам, стыдно… такое придовольствие во всем и есть нечего? Что же Рассее остается… У нас с весны, например, к помещику идут по 15 коп. в день работать… да свои харчи… да возьми, пожалуйста!.. Вот жизнь!..
— Как это так? — спрашивает Муравин, уклоняясь от спора с Лактионом: — нам платили по семи гривен, а как нам покупать, с нас за наш же хлеб по рублю семи гривен?..
— Ничего не попишешь…
— Подойдет край, найдем хлеба, — уверенно говорит Маметкул: — как, Ремезов? Найдем? А ты, Матвей? Я хочь сейчас: жену, детей — побоку, иду до полных амбаров… Как вы, щацкие?
— Очень слободно, — шутливо отвечает Матвей: — шацкие ребята хватские, семеро одного не боятся…[10]
Я иду с Муравиным на гумно посмотреть его пшеницу. Мы ведем разговор о культурных странах, в которых неурожай такое же редкое явление, как у нас урожай, о культурном уходе за землей, об искусственном орошении. Он ахает, изумляется, повторяет с завистью:
— Вот добро-то!.. Вот она, наука-то, куда ударяет… Да, Енропия — это страна хорошо обстроенная!..
Потом, после долгой паузы, вздыхает и говорит:
— Нанялся бы теперь куда-нибудь… Жалованье — лучше этого урожая нет… верный урожай…
— А куда?
— Да в полицию хоть. Или в сторожа куда. Как-нибудь надо…
— А много ли это даст?
— Да ныдысь за рупь восемь гривен неделю в правлении служил. В огневом карауле. Только нудно лежать показалось! Два дня пролежал, говорю Игнатке: «Игнат, поди ты поотдохни, я поработаюсь». Он два дня пролежал, надоело. Пришел: «будь она проклята», — говорит, — «скучно!..» Послали Семку, Семка уж досиживал за нас…