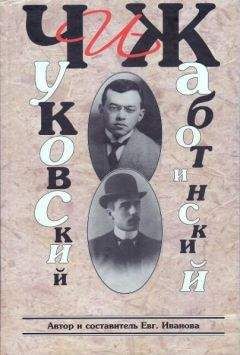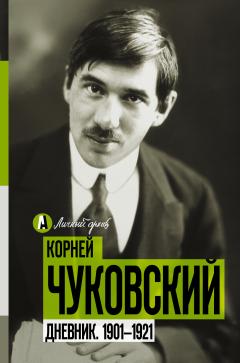А у Василия Семеновича все наоборот - и широта души и острый интерес ко всем, кто печатался и писал.
Ведь шли 60-е годы нашего века, счастливые для многих 60-е годы. Для него же они полны бед. И спрашивал про авторов "Нового мира":
- Как он выглядит? Что пишет? Сколько ему лет? Как живет?
И даже:
- На что живет?
Очень часто:
- Как Солженицын?
Появление его встретил восторженно.
- Изумительная вещь, - сказал он.
Я тогда даже не понимала так, как понимаю сейчас (после прожитых лет и горьких наблюдений), что умирающий Гроссман был неповторим в этом потоке чувств. И так естественен во всех своих реакциях.
Помню, он рассказал, как "перед самой больницей" ему в квартиру на Беговой разные люди принесли разные рукописи и про каждую сказали, что надо прочитать "за три дня". Это был ходивший тогда по рукам перевод "Процесса" Кафки и наши лагерные воспоминания, недавно написанные одной женщиной. Он через три дня с виноватой усмешкой сказал, что начал читать обе - но наш "процесс" захватил его больше, чем кафкианский. Он, конечно, собирался прочитать и то и другое, но от "нашего" оторваться совсем не мог. И несколько раз повторил собственное свое название - "наш процесс".
Он высоко оценил книгу, назвал ее очень талантливой, но образ автора и нравственное выражение ее личности вызвали и отталкивание. Что было главным для него?
- Она отказалась от своего отца, - сказал Василий Семенович. И добавил резкое слово.
В этом он был непоколебим - здоровый и больной, живой и умирающий.
Он хотел, чтобы его печатали и читали. Он мечтал об этом. Но при одном условии - что он останется верным тому, что написал.
После ареста романа в "Новом мире" в 1962 году в июньском номере появился его рассказ "Дорога". Маленький, необыкновенно прекрасный рассказ о бедном итальянском муле и его печальных злоключениях по дорогам войны. Пересказать его нельзя - столько вложено в него любви.
На этих страницах я не буду касаться истории публикации рассказа и того, что привело меня в его квартиру.
Это было в 1961 году. Сначала в тоненькой папке я привезла домой три его рассказа: два из них не были напечатаны при его жизни; третьим была "Дорога".
Он был подавлен и не верил в успех. Катастрофа с романом нанесла ему смертельную рану. И при этом оказалось, что совершенно не понимал, почему один рассказ легче напечатать, чем другой. Эта его простодушность при всей мудрости была, без сомнений, уникальна.
Но я, конечно, обязана была понимать, что напечатать легче, что труднее. И я вцепилась в "Дорогу" с ее сложным подтекстом, с ее связью с войной. И многим, многим другим...
Но с ним было легко, и он понял мою воодушевленность и надежду. И постепенно в разговоре с ним крепла и собственная моя уверенность. И показалось, что своим настроением (что рассказ пойдет) я как-то заразила его. И вдруг такой простой детской радостью озарилось его лицо, что мне больно об этом вспомнить.
Когда я собралась уходить и он вышел проводить меня в коридор, он вдруг изменился и даже помрачнел. И напомнил, как я приходила к нему когда-то от "Литературной газеты" и брала материал о "Черной книге".
И в прихожей он вдруг с какой-то суеверной тревогой сказал:
- Нет, ничего у нас, наверно, не получится. Ведь вы знаете, какая судьба постигла "Черную книгу"...
И добавил, что готовый макет ее пошел под нож после ареста еврейских писателей и разгрома антифашистского комитета.
Я даже растерялась от такого поворота. Столько трагических болевых нервных линий сплелось в нем...
И как-то не очень уверенно начала оправдываться: что с "Черной книгой", увы, получилось так... Это я знаю... Но у нас с ним тогда все было иначе. И моя заметка под названием "Черная книга" была молниеносно напечатана через три дня после нашей встречи.
Он протянул мне руку помощи - сказал, что она, эта заметка, оказалась единственным печатным свидетельством о "Черной книге". В чем, к большому прискорбию, нет моих личных заслуг, ответила я ему.
И пока мы стояли и так странно и долго говорили в прихожей, вспоминая нашу первую встречу, он неожиданно засмеялся и весело попрощался со мной.
Рассказ "Дорога" был напечатан сравнительно быстро и прошел сравнительно легко. Я уже писала о верстке, о неповторимых его словах про Робинзона и асфальт, о недолгих минутах радости, которые принес рассказ.
- Как хорошо, - сказал он мне в больнице, дав прочитать "Все течет", у меня теперь четыре читателя этой вещи, вы - четвертая.
Был и такой почти фантастический эпизод в истории его "печатания" в период между двумя больницами.
После операции была мечта, что болезнь отступит. Он оправился, начал ходить, читать, писать.
И появился у меня план, сначала я не очень верила в него и Василия Семеновича не посвящала. Был, вероятно, август 1963 года. Из соседней с нами "Недели" (еженедельного приложения к "Известиям") спрашивали часто нет ли чего-нибудь, чтобы выбрать для них отрывок. Спрашивали часто, печатали редко. И я никогда не занималась этим. А тут снова появился сотрудник - очень осведомленный, а главный редактор (Аджубей) осведомленный еще больше.
И я завела речь о Гроссмане - с сотрудником, конечно. Ведь у нас безнадежно лежали "Путевые заметки пожилого человека", переименованные в "Добро вам!". Сотрудник был в курсе дел. Но при этом ходил, выяснял, проверял. Потом появился снова, заявив, что печатать они обязательно будут, чтобы я выбрала для них отрывок. Я выбрала и послала Гроссману. Он сам дал название "Севан". И получилось просто отлично.
Потом всё двинулось вперед прямо-таки газетными темпами.
Передо мной лежала сверстанная полоса "Недели", очередного ее номера. "Севан" занимал почти целую страницу в специально очерченной художником жирно черной рамке. Сверху рисованным шрифтом - "Севан" - крупно, броско, значительно. Под ним тоже довольно крупно - "Из путевых заметок пожилого человека" и чуть ниже - Вас. Гроссман. Отрывок со своим внутренним сюжетом и изумительно звучащим голосом Гроссмана (что, впрочем, отличает и всю эту вещь). Так выглядела эта полоса.
Появилась у меня твердая уверенность, когда я смотрела на эту страницу, что после нее мы вернемся к этим "Заметкам" и напечатаем их в том виде, в каком хотел Василий Семенович. Не знаю, верил ли он сам в это, но чуть посмеивался над моими проектами.
Врач посоветовал ему поехать в подмосковный санаторий, и вскоре он уехал (кажется, это было Архангельское, и после него ему стало хуже).
В "Неделе" все шло точно и быстро, он звонил по телефону из санатория и узнавал, как дела. И вот в ближайшую субботу должен был "Севан" появиться в свет. Мы условились с ним, что он позвонит утром мне домой, я назначила точно час, когда должна появиться "Неделя". В пятницу уходя вечером из редакции, я еще раз проверила все у сотрудника "Недели".
Была суббота, у меня - творческий день, "Недели" я не выписывала, но редакция наша работала. И договорились, что секретарь редакции Наталья Львовна, как всегда, утром забежит в "Известия" за экземплярами "Недели". Она была в курсе дела и обещала, что с этого начнет рабочий день. Кроме того, я договорилась с одним молодым писателем, он был подписчиком "Неделя" и обещал утром тоже позвонить мне, сразу как вытащит номер из ящика.
Прожила это время в большом напряжении. Но зазвонил телефон раньше, чем я ждала:
- Все в порядке, - услышала я спокойный и довольный голос Натальи Львовны.
Она сказала, что напечатали, назвала страницу - семнадцатую, прочитала название, первый абзац, второй абзац, последний абзац.
Это был подарок...
Василию Семеновичу, когда он позвонил, я все это с большим подъемом описала и сказала, что в "Новом мире" лежит много номеров "Недели" специально для него. То была "Неделя" - номер 39, 22-28 сентября 1963 года.
Я успокоилась, расслабилась и решила в эту субботу заняться чем-нибудь успокоительным для себя.
И на задний план отодвинулось, что почему-то не позвонил молодой писатель, а мы так твердо условились.
Позвонил он чуть позже. И сказал как-то осторожно и очень мягко:
- Значит, не напечатали...
Я возмутилась и стала его укорять - как он так невнимательно смотрел, ведь Наталья Львовна вслух прочитала почти все.
Он удивился очень и сказал решительно, что позвонит ровно через пятнадцать минут. И тут все во мне замерло тяжким и таким привычным за годы работы в печати предчувствием беды.
Молодой писатель позвонил еще раз и сказал, что я могу его кромсать и резать, но Гроссмана в "Неделе" нет.
Что же случилось? Расскажу только то, что узнала сама. "Неделя" № 39 за 22-28 сентября 1963 года была набрана и сверстана вместе с "Севаном" Гроссмана. Номер был подписан в печать и залитован. Началось печатание тиража, первые экземпляры которого попали в "Новый мир". И вдруг утром, во время этого печатания, появился заместитель главного редактора Ошеверов. Он остановил печатание и из готового тиража (что делали в сталинские времена, когда в ночь выхода номера был арестован автор - я сама пережила несколько таких ночных историй!) вырвал Гроссмана и вставил на это место другой материал.