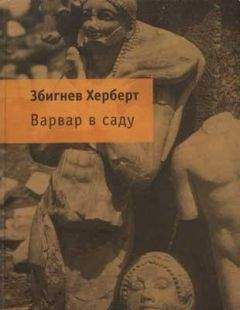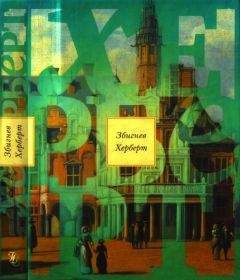Защита позволит себе процитировать фрагменты некоторых признаний.
Понсар из Гизы, 29. XI. 1309 г.:
«Спрошенный, подвергался ли он пыткам, ответил, что три месяца назад, когда он давал показания парижскому епископу, его бросили в тесную яму, связав за спиной руки так крепко, что у него из-под ногтей сочилась кровь; тогда он сказал, что, если его будут терзать, он откажется от предыдущих показаний и скажет все, чего от него хотят. Он был готов на все, лишь бы казнь была скорой — обезглавливание, костер, котел с кипящей водой, — до такой степени были для него непереносимы долгие мучения, какие он терпел, пребывая почти два года в тюрьме».
Брат Бернар из Альби:
«Меня так жестоко пытали, так долго допрашивали и держали над огнем, что ступни мои обгорели, и я чувствовал, как кости у меня ломаются».
А вот показания брата Эмери из Вильер-ле-Дюка от 13 мая 1310 г.
В протоколе написано, что обвиняемый был бледен и испуган. Он клянется, возложив руку на алтарь, что все преступления, в которых обвиняется орден, вымышлены. «Если я лгу, пусть тут же на месте тело и душу мои поглотит ад». Когда же ему зачитали предыдущие его признания, он показал:
«Да, я признался в некоторых прегрешениях, но только по причине пыток, каким меня подвергли королевские рыцари Гиде Марсий и и Юг де ла Сель. Вчера я видел, как везли пятьдесят четырех моих братьев, дабы сжечь их живьем на костре… Ах, говорю вам, я очень боюсь смерти, и, ежели мне пригрозят костром, перед этой угрозой я не выдержу и сдамся… Я признаюсь под присягой вам, признаюсь кому хотите в любых преступлениях, в каких вы обвиняете орден; признаюсь даже, если от меня этого потребуют, в том, что самолично убил Бога».
Я хотел бы обратить внимание Высокого суда на психологический аспект смерти на костре. Звериный страх перед огнем основывается на инстинктивном знании, что он причиняет телу самые жестокие страдания. Какие же нужны душевные силы, чтобы сохранить веру в то, что удастся из этой всеуничтожающей стихии внести хотя бы самую малую частицу нашего существа. Для людей средневековья вкус пепла вовсе не был, как для нас, вкусом небытия. Смерть в огне была преддверием ада, того никогда не угасающего костра, на котором страдают никогда до конца не сгорающие тела. Физический огонь соединялся с огнем духовным. Прижизненная — предсмертная — мука предвещала вечные муки. Небо — обитель избранных, прохладные, безмолвные массы воздуха — умирающим на костре казалось далеким и недостижимым.
В начале 1309 года следствие возобновляется, и эта новая фаза процесса характеризуется, с одной стороны, завинчиванием гаек машины для добывания показаний (только в одном Париже в процессе допросов умерли тридцать шесть тамплиеров), а с другой — происходит нечто, казалось бы, непонятное, необъяснимое: начинается не встречавшееся доселе сопротивление узников, которые вдруг отринули все уловки и всякую политику. Жак де Моле заявляет, что будет защищать орден, но только перед самим папой. Другие братья делают подобные же заявления. Ко 2 мая число тамплиеров, желающих защищать орден, возросло до пятисот семидесяти трех. Ответом на это проявление массового сопротивления стал костер, на котором были сожжены пятьдесят четыре тамплиера. Вновь торжествует старый римский метод децимации, то есть казни каждого десятого.
В июне 1311 года сбор доказательств завершен и акты следствия пересланы папе. Собор во Вьене не оказал ордену помощи, на которую тот надеялся. Вспомним, это было время авиньонского пленения, и папа счел, что дело окончательно проиграно. Булла «Vox Clamantis»[83] от 3 апреля 1312 года распускала орден, однако в ней не было осуждения тамплиеров. Их владения и имущество переходили к ордену госпитальеров. Так что для Филиппа Красивого кровь братьев ордена Храма не превратилась в золото.
Однако тюрьмы Франции полны, и надо что-то делать, особенно с орденскими сановниками, которые хотят сами защищаться на суде, «понеже у нас нет и ломаного гроша, чтобы заплатить за другую защиту». И они упорно добиваются, чтобы их предали папскому суду.
Но следствие закончено, и посланцы Климента V безучастно присутствуют при оглашении приговоров. Руководителям тамплиеров грозит пожизненное заключение.
Приговор Жаку де Моле и Жоффруа де Шарне был зачитан в соборе Нотр-Дам. Огромная толпа, затаив дыхание, в безмолвии слушала, но, прежде чем сентенция была дочитана до конца, оба обвиняемых — возможно, подействовала патетическая готика собора — обратились к народу, крича, что все преступления и ересь, которые приписываются ордену, — ложь, что устав тамплиеров «всегда был чистым, праведным и католическим». Тяжелая рука стражника опустилась на уста магистра, заглушая его последнее слово. Кардиналы передают строптивцев в руки парижского суда. Разъяренный Филипп Красивый велит сжечь их на костре, и притом в тот же день. Чтобы утолить гнев, он посылает на костер еще тридцать шесть чересчур бескомпромиссных братьев.
На этом, Высокий суд, внешне заканчивается трагедия рыцарей ордена Храма. Эксперты обследуют гробницы в поисках тайных знаков. Иногда им удается найти цепочку эонов{206}, иногда их завораживает обнаруженная на портале гримаса мнимого Бафомета. Защита же поставила перед собой задачу куда скромней — исследование инструментов следствия.
В истории ничто окончательно не закрывается. Методы, использованные в борьбе с тамплиерами, вошли в репертуар власти. И потому это давнее дело мы не можем оставить на произвол бледных пальцев архивистов.
И вот друзья говорят: «Ну, хорошо, ты там побывал, многое увидел, тебе понравились и Дуччо, и дорические колонны, и витражи в Шартре, и быки из Ляско — но все-таки скажи: что ты выбрал для себя, кто твой художник, которого ты не отдал бы ни за какого другого?» Вопрос куда серьезней, чем мог бы показаться, ибо всякая любовь, если она истинная, должна стирать предыдущую, полностью захватывать человека, быть тиранической и стремиться стать единственной. И я задумываюсь и отвечаю: Пьеро делла Франческа.
Первая встреча: Лондон — Национальная галерея. День пасмурный, на город опускается удушливый туман. И хотя на этот день у меня не было запланировано посещение музеев, надо было укрыться от нашествия душной влажности. Я и в малой степени не ожидал такого впечатления. Уже с первого зала стало ясно, что лондонский музей дает сто очков вперед Лувру. Ни разу в жизни не доводилось мне видеть столько шедевров. Возможно, это и не лучший метод знакомиться с произведениями искусства. В программу концерта наряду со Скарлатти, Бахом и Моцартом неплохо включить, скажем, Носковского{207}, не для того, чтобы унизить его, а нам в поучение.
Дольше всего я стоял возле живописца, имя которого мне было знакомо только по книгам. Картина называется «Рождество» и сразу захватывает необычной композицией, исполненной света и сосредоточенной радости. Впечатление было такое же, как в тот раз, когда я впервые увидел Ван Эйка. Трудно дать определение эстетическому потрясению подобного рода. Картина приковывает к месту, и уже нельзя ни отойти назад, ни подойти поближе, как, скажем, к современному холсту, — чтобы понюхать краску, рассмотреть фактуру. Фоном «Рождества» служит убогий хлев, верней, кирпичная полуразрушенная стена с легонькой наклонной крышей. На переднем плане на вытертой, как старый коврик, траве лежит Новорожденный. Позади него хор — пять обращенных лицами к зрителям ангелов, босоногих, мощных, как колонны, и чрезвычайно земных. Их крестьянские лица являют контраст просветленному, как у Бальдовинетти{208}, лику Мадонны, которая в безмолвном благоговении преклонила колени справа от младенца. Пылают хрупкие свечи ее прекрасных рук. На заднем плане массивное туловище быка, осел, двое, я бы сказал, фламандских пастухов и святой Иосиф, обращенный к зрителю в профиль. Два пейзажа по бокам — словно окна, сквозь которые льется пенящийся свет. Невзирая на повреждения, краски чисты и звонки. Картина эта написана художником в последние годы жизни и, как прекрасно кто-то сказал, подобна вечерней молитве, с которой Пьеро обращается к детству и рассвету.
На противоположной стене — «Крещение Христа». Та же торжественная архитектоническая основательность композиции, хотя картина эта написана много раньше «Рождества». Это одно из первых сохранившихся полотен Пьеро. Плотская основательность фигур контрастирует с пейзажем — легким, мелодичным и чистым. В положении листьев на карте неба есть нечто окончательное: мгновение претворяется в вечность.
Мудрый принцип Гете: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen»[84], — в области живописи можно перетолковать так: картины, плоды света, надо смотреть под солнцем родины художника. Мне и вправду не кажется, что Сасетта будет на своем месте даже в самом лучшем нью-йоркском музее. И я решил совершить паломничество к Пьеро делла Франческа, а поскольку средства мои были более чем скромны, мне пришлось довериться удаче и случаю. Потому-то в описании этом нет столь любезной ученым хронологии.