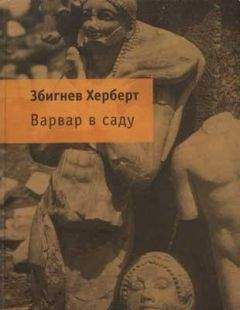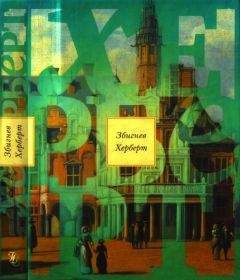«Пытка иудея» — речь идет о человеке по имени Иуда, который знал, где укрыто дерево Креста, но, поскольку не желал выдать тайну, его по приказу Елены, матери императора, бросили в высохший колодец. На картине изображен момент, когда двое императорских слуг вытаскивают раскаявшегося Иуду из колодца на веревке, которая перекинута через блок, закрепленный на треугольном сооружении.
Сенешаль Бонифаций крепко ухватил его за волосы. Изображенное могло бы навести на мысль об этюде на тему жестокости, но Пьеро повествует о происходящем языком бесстрастным и обстоятельным. Лица персонажей драмы невозмутимы и лишены эмоций. Если и есть в этой сцене нечто ужасающее, то только треугольное сооружение с блоком и веревкой, к которой привязан осужденный. И вновь геометрия поглотила страсть.
«Отыскание и доказательство истинности Креста». Фреска разделена на две части, неразрывно связанные между собой и тематически, и композиционно. В первой сцене рабочие, за которыми наблюдает мать Константина, выкапывают из земли три креста. Вдалеке, в седловине долины, средневековый город — башни, остроконечные крыши, розовые и желтые стены. Вторая сцена представляет, как полуобнаженный человек, которого коснулись Крестом, восстает из мертвых. Мать цезаря и ее придворные дамы благоговейно созерцают воскрешение. Архитектурный фон как бы является комментарием к происходящему. Это уже не средневековый город-призрак, как в предыдущей сцене, но гармония мраморных треугольников, квадратов и окружностей, ренессансная зрелая мудрость. Архитектура играет здесь роль последнего, рационального доказательства истинности чуда.
Через триста лет после того, как Крест был найден, персидский царь Хосрой захватывает Иерусалим вместе с драгоценнейшей реликвией христианства. Император Ираклий{217} одерживает победу над ним. Сражение написано с размахом. Клубящаяся масса людей, коней и оружия только внешне напоминает знаменитые баталии Учелло. Зрителя более всего потрясает то, что фрески Пьеро исполнены величайшего покоя. Битвы Учелло оглушительны. Его медные кони сталкиваются крупами, вопли сражающихся и топот взлетают к жестяному небу и тяжело опадают на землю. У Пьеро движения словно бы замедленны, торжественны. Повествование эпически бесстрастно, а убиваемые и убивающие исполняют свой кровавый ритуал с сосредоточенной серьезностью лесорубов, валящих лес. Небо над головами сражающихся прозрачно. Развевающиеся на ветру знамена «клонят с высоты опущенные крылья, словно пронзенные копьями драконы, ящеры и птицы».
И вот, наконец, победитель Ираклий во главе торжественной процессии, босой, несет Крест в Иерусалим. Императорская свита состоит из греческих и армянских священников в красочных головных уборах странной формы. Историки искусства удивляются, где Пьеро мог видеть столь фантастические наряды. Но вполне возможно, что продиктовано это чисто композиционными соображениями. Склонный к монументальности Пьеро увенчивает головы своих героев, как архитектор венчает колонны капителями. Шествие Ираклия, финал золотой легенды, звучит торжественно и чисто.
Шедевр Пьеро сильно поврежден сыростью и неумелыми реставраторами. Цвета приглушенные, точно протертые мукой, а кроме того, из-за скверного освещения хоров смотреть фрески очень трудно, плохо видны детали. Но даже если бы от этой легенды сохранилась только одна-единственная фигура, одно дерево, кусочек неба, то по этим обломкам, как по фрагментам греческого храма, можно было бы реконструировать целое.
В поисках ключа к загадке Пьеро исследователи заметили, что он был одним из самых безличных, надиндивидуальных художников всех времен. Беренсон сравнивает его с анонимным ваятелем Парфенона и Веласкесом. Истоки мощи этого искусства в том, что в его персонажах, человеческих существах, разыгрывается патетическая драма полубогов, героев и гигантов. Отсутствие психологической экспрессии позволяет лучше воспринимать чисто художественные достоинства — форму, движение объемов и света. «Выражение лица зачастую бывает настолько лишним и мешающим, что порой для меня предпочтительней статуя без головы», — признается Беренсон. Мальро{218} же в творце «Легенды Креста» приветствует открывателя бесстрастности как доминирующего выражения лиц его персонажей: «Его скульптурная толпа оживляется лишь во время сакрального танца… это принцип современного восприятия, требующего, чтобы экспрессия живописца выявлялась в самой живописи, а не в фигурах, которые он изображает».
Над битвой теней, конвульсиями, воплями и яростью Пьеро делла Франческа выстроил lucidus ordo, извечный порядок света и равновесия.
Я думал, что не стоит заезжать в Монтерки, небольшую деревушку, расположенную в двадцати пяти километрах от Ареццо, — этакий каменный пруд, заросший ряской лазури и кипарисов. Но после письма друга изменил решение. Друг писал: «В Монтерки кладбище и часовня расположены чуть в стороне от дороги, на холме, метрах в ста за деревней, в которой появление чужой машины вызывает небольшую сенсацию. Подъезжаешь по дороге, обсаженной оливами, а по обе стороны от нее тянутся виноградники. Часовня и домик кладбищенского сторожа стоят на одной линии с моргом, но все так заросло виноградной лозой, что обрело вид совершенно буколический. Местные девушки и матери с детьми приходят сюда на вечерние прогулки».
Снаружи часовня желтая, а внутри известково-белая; возможно, даже барочная, хотя, в сущности, бесстильна. И притом настолько мала, что алтарь размещается в нише, а места в ней едва хватит на гроб и двух-трех сопровождающих. Стены голые, единственное украшение — помещенная в раму фреска, сильно поврежденная по бокам и в нижней части. В странствии через века ангелы с фрески потеряли сандалии, и какой-то бездарный реставратор заново их обул.
Пожалуй, это одна из самых вызывающих Мадонн, какую когда-либо осмеливался написать художник. Человечная, пасторальная и плотская. Волосы ее плотно прилегают к голове, открывая большие уши. У нее чувственная шея и полные руки. Нос прямой, набухшие губы плотно сжаты, веки опущены, сильно натянуты на черные глаза, всматривающиеся в глубь тела. На простом платье с высоким лифом разрез от груди до колен. Левую руку она оперла на бедро, точь-в-точь как бойкая деревенская девица, а правой дотронулась до живота, но без тени вульгарности — так, как прикасаются к тайне. Для крестьян из Монтерки Пьеро написал то, что всегда было самым трогательным секретом всех матерей. Два ангела сбоку энергичным движением открывают драпировку, как занавес.
По счастливой случайности Пьеро родился не в Риме, не во Флоренции, а в маленьком Борго Сан Сеполькро. Вдали от грохота истории, среди тихих полей и мирных деревьев. Художник часто и охотно приезжал в родной город, даже занимал должности в городском магистрате. Здесь он и умер.
Две картины величайшего сына Борго Сан Сеполькро хранятся там в Палаццо Муничипале. Одна из них — полиптих «Мадонна Милосердная», которую Фосийон считает первой самостоятельной работой Пьеро. Верхняя часть изображает распятие. Христос написан патетично и сурово, но стоящие у креста Мадонна и св. Иосиф полны экспрессии, которой в позднейших работах делла Франческа уже не увидишь. Жесты их рук, их ладони с раздвинутыми пальцами выражают бурное отчаяние, точно Пьеро еще не выработал свойственную только ему одному поэтику молчания и сдержанности. Зато в главной части полиптиха — Мадонне, укрывающей плащом верующих, — уже видны зачатки будущего стиля. Центральная фигура — высокая, могучая и безличная, как стихия. Ее серо-зеленый плащ сплывает на головы верующих, как теплый дождь.
«Воскресение» написано уверенной рукой сорокалетнего мастера. Христос прочно стоит на фоне меланхолического тосканского пейзажа. Это победитель. Правой рукой он крепко сжимает копье с вымпелом. Левой придерживает саван — точно сенаторскую тогу. У него мудрое дикое лицо с ввалившимися глазами Диониса. Левую ногу он поставил на край гроба — так наступают на горло поверженного в поединке врага. На переднем плане четыре римских стражника, пораженные сном. Контраст этих двух состояний — внезапного пробуждения и тяжкой летаргии людей, обращенных в предметы, — потрясающ. Свет акцентирует Христа и небо; стражники, пейзаж на заднем плане погружены в тень. Хотя группа кажется статичной, Пьеро гениально, как физик, продемонстрировал проблему хаоса и движения, живой энергии и оцепенелости, всю драму жизни и смерти, выраженную мерами недвижности.
Кто-то сравнил Урбино с дамой в зеленом плаще, сидящей на черном троне. Эта дама — дворец, доминирующий над городком так же, как в его истории доминировали владельцы дворца князья Монтефельтро.
Вначале это были рыцари-разбойники, и Данте, величайший авторитет в вопросах загробного воздаяния, поместил одного из них, Гвидо, в том кругу ада, где стенают сеятели раздоров. Однако с течением времени темпераменты стали спокойней, характеры утонченней. Федериго, который правил с 1444 года, являл собой образчик генерала-гуманиста. Если он и воевал, как, например, с необузданным Малатестой{219}, дважды женоубийцей, которого Пьеро изобразил коленопреклоненным, с молитвенно сложенными руками перед св. Сигизмундом, то делал это с явной нелюбовью к кровавым зрелищам. Был он в равной степени энергичен и расчетлив и благодаря тому, что служил кондотьером у Сфорца, Арагонской династии и пап, утроил свои владения. Он охотно прогуливался по столице своего княжества в простом красном наряде, один, без эскорта (уже тогда был известен этот пропагандистский прием), и запросто, как человек с человеком, беседовал со своими подданными. Правда, подданный, удостоенный дружеской беседы, опускался при этом на колени и целовал князю руку, но тем не менее по тогдашним временам Федериго был поистине либеральным государем.