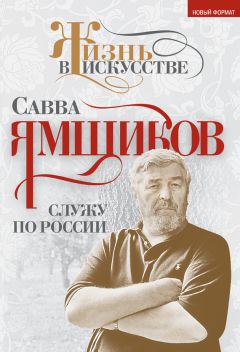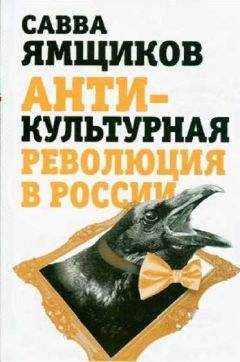— Тихо, Шур, тихо. Ты ж даже не в курсе. Меня Лёнька угостил, — вдруг сказал дядя Степан и подмигнул Алексею. — Специальная, между прочим, настойка. Лечебная. В аптеках только по рецепту выдают. А ты сразу — в голос.
— А что ты там схоронил?
— Где?
— А вон там, под ногами.
Сколько помнил себя Алексей, всегда они сражались между собой, дядя Степан и тётка Шура. Раньше, бывало, с отцом уйдут под липу, после покоса бутылочку распечатают и сидят, картошку варят, войну, фронт вспоминают… Тогда не было тётке Шуре покоя. То на овощовник выскочит, собаку возле будки пнёт, то опять домой вернётся и там, в сенцах, с кем-нибудь из домашних схватится, ведро с водой на пол опрокинет и потом со слезами, подоткнув юбку, вытирает пол и крыльцо… А однажды Алексей услышал, как они вдвоём пели. На покосе. Дольки их в лугах тоже всегда были рядом. И отец с дядей Степаном косили всегда вместе. Сперва один луг, а потом другой. Однажды вечером возле шалаша после ужина с бутылочкой… И песня какая-то старинная. И голоса, усталые, но удивительным образом сразу как-то помолодевшие, так свивались и переплетались, поддерживая и дополняя друг друга, что взрослые, слушая их, не стесняясь, плакали, а они, дети и подростки, притихли.
Надо же, на него всё свалил.
— Ты не бреши мне! — не унималась тётка Шура. Скрипнула калитка. Появилась Рита. Посмотрела на них строго, подобрала с земли вёдра и молча пошла к крайней грядке.
Они копали свои грядки почти рядом. И то он, то она нет-нет да и взглядывали друг на друга украдкой. И это, кажется, стали замечать все. Дядя Степан дёргал бровями и усмехался. Тётка Шура молча поджимала губы. Больше всех нервничала Рита-маленькая, как её про себя прозвал Алексей. Она шумно вздыхала и что-то тихо говорила матери. Та только улыбалась и крутила ей пальцем у виска. Они были похожи на двух подружек, у одной из которых, кажется, начинался глупейший роман…
К полудню соседи свой огород прикончили и молча, никому ничего не говоря, перешли на соседские гряды.
— Вот спасибо вам, соседушки! — сказала мать, глядя, как Рита нагнулась над краем гряды и украдкой взглянула на её сына.
Они копали одну и ту же гряду. Так получилось. Когда Рита сообразила, что ошиблась, не туда встала, переходить на другую было уже поздно. Встретились посредине, возле бурта. Он хотел было пройти мимо, а она нарочно заступила дорогу, и они столкнулись. Посмотрели друг на друга, обдали друг друга своим теплом и дыханием и долго не могли отвести глаз. Пока Рита-маленькая не окликнула её:
— Ма, ты что?!
Дядя Степан только усмехнулся и удовлетворённо пошевелил седыми бровями.
Уже к концу дня осилили и их огород. Бурт насыпали большой, высокий.
— Ох, нам бы тут с Алёшенькой ещё день копаться!… — сказала радостно мать.
Он нарочно не уходил с огорода подольше, ждал, когда все разойдутся. Рита стояла возле бугра, тоже неторопливо поправляла косынку.
— Ну что, Алёша, нашёл вчера нашу скамеечку? — спросила она тихо, чтобы не услышал больше никто, кроме него.
Значит, и она вчера там была. Может, он прошёл мимо неё и не заметил…
— А липа наша совсем повалилась. — И она в упор посмотрела на него безмятежно-спокойными серыми глазами, опушёнными густыми ресницами, которые, как ему показалось, были немного подкрашены.
Он разглядел морщинки вокруг её рта и в уголках глаз. Они ещё не портили её лица, но уже напоминали о том, что не просто годы прожиты друг без друга, а целая жизнь, которая, конечно же, изменила и её, и его.
— А давайте-ка, девки, баню сегодня затопим! Откопки отметим! — сказал дядя Степан. — Вы, молодёжь, наносите-ка воды. А уж моё стариковское дело — печка.
Баня у них, как и у большинства в деревне, была на два дома. Был жив отец, топили по очереди. Кто в субботу, а кто в воскресенье. Сперва шли
женщины, потом — мужики. Женщины парились редко, каменку не трогали. А мужики уж хлестались до последнего духа.
Они быстро наносили воды.
Воду носили вдвоём. Рита-маленькая, которую, как оказалось, звали Катей, сказала им:
— Я вижу, вам и вдвоём хорошо… — И ушла домой.
Они посмотрели ей вслед и некоторое время молча стояли на стёжке, убегающей вниз. Они, конечно, понимали, что девочка вовсе не пыталась разрушить в них то, что уже успели они создать и чем так дорожили.
— А может, Алёш, ты и один воды наносишь? — вдруг сказала она.
— Устала?
— Да нет, не в этом дело.
— Тогда пойдём носить воду. Нам приказано это сделать вдвоём.
— Ну смотри…
От бани до родника, мимо липы и кустов сирени, было шагов тридцать, не больше. Так и ходили друг за дружкой. Друг над дружкой подшучивали. Пока не наполнили бак, вмурованный в печь, и две фляги.
— Вот жили бы и жили здесь, в своей деревне, — сказала Рита. — Носили бы воду в баню. На пару мылись бы каждую субботу. Как хорошо! А то помчались куда-то. Счастье искать…
— Держали бы корову… Сажали бы два огорода картошки… И ты была бы уже старушка-крестьяночка, а не женщина в полном соку с южным загаром на красивых плечах.
— В каком-каком соку? — через плечо, выгнув шею, переспросила она.
— В полном.
— Ты его чувствуешь? — дразнила она, уже понимая свою силу и власть над ним.
— Что?
— Мой сок.
— Да.
— Вот и разберись, чего тут больше, физиологии или романтики.
— Романтика без здоровой физиологии обречена на вырождение. Она сделала вид, что не расслышала последних его слов.
В бане молодо пахло вениками. Старые, истрёпанные до прутьев, валялись в углу. А свежие висели в предбаннике вдоль стены на тонкой липовой жёрдочке, связанные по два.
— Видишь, как правильно жизнь в деревне всегда строилась. — И Рита указала на веники. — Во всём парность, гармония.
— Да, действительно, — согласился он. — Как-то раньше не замечал.
Рита опрокинула последние вёдра в бак. Он свои поставил около. Раньше, случись такое, уже бросились бы друг к другу, уже задохнулись бы в неизбежном взаимном восторге. Но теперь стояли растерянные и чужие, и никто не осмеливался сломать это измучившее их отчуждение, словно каждый терпеливо и мудро ждал, что это сделает другой. Вот чем прекрасна юность: она не отягощена мудростью лет, опытом прожитого, она легка и непринуждённа и творит своё будущее с удивительной непосредственностью.
Немного погодя с горки по тропе кто-то спустился, вошёл в сумерки предбанника и голосом дяди Степана насмешливо спросил:
— Ну, что вы тут старыми вениками шомочите? Пора за новые браться!
Дядя Степан вытопил печь. Заложил душник под стрехой и сказал:
— Ну, я пошёл баб звать. А мы, Лёнь, с тобою после них попаримся. Но дядя Степан есть дядя Степан…
Он вышел на горку и, увидев там идущую навстречу жену, вдруг широко раскинул руки, пошатнулся и крикнул:
— А что-то угорел я, Санюшка!
— А где ж ты взял, пралик ты этакий! — всплеснула своим громким голосом тётка Шура. — Во! Вы только поглядите на него! Люди! Уже угорел! Ну хоть бы ж детей постеснялся!
— Виноват, Санюшка. Виноват, голубушка моя небесная. Бреду исправляться.
— Иди, ложись! А то будешь колобродить, детей пугать!
— Прилягу, Санюшка. — И дядя Степан, кивая головой и подсекая ногами, пошёл к дому.
Алексей сидел у телевизора, когда пришла из бани мать. Долго и протяжно пила на кухне квас. Сказала:
— Иди. Шурка с Катюшей уже ушли. А Риты что-то не было. Ждали мы её, ждали…
Так вот почему дядя Степан на горке придурился, догадался Алексей.
Он разделся в холодном предбаннике. Прислушался. Вошёл в баню. Здесь всё было по старинке. На подоконнике горела керосиновая лампа. Он немного убрал огонь, чтобы фитиль не коптил. Два свежих веника были заботливо замочены в тазу. Он вынул один и встряхнул им над каменкой. Камни отозвались вибрирующим сердитым гулом.
Стукнула дверь. Он замер, прислушался. Шаркнула чья-то осторожная ладонь по стене. Кто-то, видимо, искал дверь. Вот нашёл, потянул за скобу.
Она вошла, нагнувшись под низким присадом, плотно придавила спиною дверь. Огонёк лампы вздрогнул, завибрировал. Одна рука её лежала на груди, прикрывая соски, а другая всё ещё шарила по двери. Она накинула на петлю крючок, которого он раньше даже не заметил, и распрямилась под низким, чёрным, как ночное небо, потолком. В неверном вздрагивающем свете керосиновой лампы на фоне закопчённой стены вся она казалась сияющей. Вся она была озарена — от кончиков пальцев ног до кончиков коротко остриженных каштановых волос.
— Ну? Что замер? — как всегда, первой нарушила она оцепенение.
— Смотрю.
— Ты смотришь слишком… как врач. Как человек профессии. Никто тебе никогда не говорил, что не надо относиться к профессии, как к женщине?
— Как к женщине?