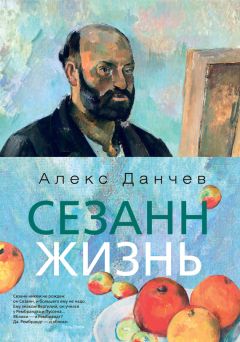В мэрии – никаких объявлений, и от тех, кому знакомо имя Сезанна, о тебе я не слышал{513}.
По всей видимости, жандармы побывали в Жа-де-Буффане, где мать Сезанна радушно пригласила их в дом и предложила все обыскать. «Он уехал пару дней назад, – уверила она их. – Если узнаю, где он, дам вам знать»{514}. «Месье Сезам» растворился в воздухе. В более поздние годы его зять Максим Кониль любил пересказывать драматичную историю бегства, которое может даже показаться почти героическим (насколько – дело вкуса): Сезанн в тот момент был в Жа; он велел матери отпереть все двери и впустить жандармов – пусть смотрят; зная все углы и щели, он сумел спрятаться; а они ушли ни с чем. «В ту ночь Сезанн сложил кое-какие вещи и пошагал через холмы в Эстак. ‹…› Там он и просидел всю войну». В 1914 году, когда шла следующая война, Эли Фор опубликовал другую версию, а еще через несколько лет Морис Дени изложил Андре Жиду услышанный им рассказ о том, как художник выпрыгнул из окна{515}. Передаваясь из уст в уста, история обрастала новыми подробностями; сюжет дезертирства Сезанна продолжал обсуждаться и в межвоенный период, пока не был окончательно вытеснен все более популярной темой оккупации и коллаборационизма в годы Второй мировой войны.
Жандармы его так и не нашли. Насколько упорно они искали и как далеко от дома – этого мы не знаем. В любом случае Сезанн спокойно продолжал заниматься живописью. После нескольких месяцев молчания Золя встревожился. Отправил Алексиса в его берлогу в Эстаке. «Сезанна нет! – сообщил тот. – У меня был долгий разговор с месье Жиро [домовладельцем], которого все называют lou gus [бродяга]. Обе птички упорхнули… уж месяц тому назад! Опустело гнездышко, заперто. „Они в Лион подались, – сказал мне месье lou gus, – ждать, пока в Париже не прекратится пожар!“». Золя было не провести. «Что Сезанн упорхнул в Лион – это сказки. Наш друг просто хотел сбить месье Жиро со следа. Он прячется в Марселе или в какой-нибудь укромной долине. Я беспокоюсь и должен как можно скорее его найти»{516}. Золя поручил Алексису добраться до Жа, чтобы с глазу на глаз поговорить с матерью Сезанна, а если не выйдет, спросить Амперера, нет ли у него адреса их друга. План удался. Очевидно, мать Сезанна знала, где он. Сезанн написал Золя, тот сразу же ответил.
Я был несказанно рад получить твое письмо, поскольку начинал волноваться. Вот уже четыре месяца мы друг о друге не слышали. В середине прошлого месяца я написал тебе в Эстак, но затем оказалось, что ты уехал, а мое письмо, должно быть, затерялось. Я изо всех сил пытался тебя разыскать, но тут ты сам пришел мне на помощь. Ты спрашиваешь, какие у меня новости. Расскажу в двух словах. Писал я тебе, кажется, накануне отъезда в Бордо и обещал отправить еще одно письмо, как только вернусь в Париж. Я был в Париже 14 марта [1871]. Через четыре дня, 18‑го, началось восстание [имеется в виду Парижская коммуна], почтовые службы перестали работать, и я оставил мысль о том, чтобы подать признаки жизни. Два месяца я жил в самом пекле: день и ночь канонада, а под конец снаряды пролетали над моим садом. Наконец, 10 мая, я чуть не попал в заложники; с помощью прусского паспорта мне удалось бежать, и я подался в Боньер [к северо-востоку от Парижа], где провел самые ужасные дни. Сегодня я тихо живу в Батиньоле, словно очнулся от страшного сна. Мой домик прежний, сад не тронут, ни одна вещь, ни одно растение не пострадали, и я почти готов поверить, что обе осады были скверной шуткой, придуманной, чтобы попугать детей.
Но я ни на минуту не прекращал работу, поэтому дурные воспоминания улетучиваются быстрее. Уехав из Марселя, я смог обеспечить себе безбедную жизнь. ‹…› Пишу это, чтобы ты за меня не переживал. Я полон надежд, как никогда, и увлечен работой. Париж возрождается. И, как я не раз тебе повторял, пришел наш черед править!
Мой роман «Карьера Ругонов» вот-вот должен выйти. Ты себе не представляешь, с каким удовольствием я в очередной раз работаю над корректурой. Как будто это моя первая книга. ‹…› Чувствую некоторое сожаление, когда вижу, что не все бестолочи померли, но утешаю себя мыслью, что живы мы. Можно продолжать борьбу.
Я немного тороплюсь и пишу небрежно, только чтобы подтвердить, что у меня все благополучно. В следующий раз буду более красноречив. Только ты, имея в распоряжении целые дни, не тяни месяцами с ответом. Теперь ты знаешь, что я в Батиньоле, и твои письма не канут в никуда, так что пиши мне не боясь. Рассказывай подробности. Я одинок почти так же, как и ты, и твои письма во многом помогают мне жить{517}.
Похоже, это письмо – со звучащими в нем отголосками юности, с его откровенным солипсизмом, экспрессивностью, настойчивостью, радостным настроем и братской теплотой – произвело на Сезанна сильное впечатление, причем здесь есть любопытный нюанс. Видимо, оно разбудило также воспоминания о том, как он писал портрет Алексиса, читающего свои рукописи Золя, в том самом домике (с черными часами, показывавшими время на каминной полке) и в саду, где писатель сидел на траве по-турецки, изображая «мрачного пашý реализма», и внимал чтецу, словно принимая дань (цв. ил. 31){518}. Когда о войне спросил Воллар, Сезанн тут же вспомнил Золя и его письмо:
О семидесятом – семьдесят первом годах рассказать мне особенно нечего. Я проводил время то на пленэре, то в мастерской. Но если я пережил эту смутную пору без приключений, то этого отнюдь не скажешь о моем друге Золя, на долю которого выпали все несчастья, особенно после его окончательного возвращения в Париж из Бордо. Он обещал написать мне, когда будет в столице. И только через четыре долгих месяца сумел выполнить обещание!
Узнав, что власти Бордо в его услугах не нуждаются, Золя решил вернуться в Париж. Бедняга прибыл туда в середине марта 1871 года; через несколько дней вспыхнуло восстание. [Далее следует почти буквальный повтор фрагмента письма Золя.]
Месье Воллар, я сожалею, что не сохранил то письмо. Иначе я процитировал бы слова Золя, сокрушающегося, что не все бестолочи померли!
Бедный Золя! Он первым принялся бы горевать, если бы эти бестолочи попрощались с жизнью. Вообще-то, совсем недавно я напомнил ему фразу из его письма – ради смеха (наша встреча в тот вечер была одной из последних). Он сказал, что собирается ужинать у большой шишки, которой представил его месье Франц Журден. А я не смог удержаться и ответил: если бы «бестолочей» не стало, тебе пришлось бы доедать запеканку дома, тет-а‑тет с этим твоим буржуа! Так вот представьте себе, что наш старый друг обиделся.
Согласитесь, месье Воллар, что можно и немного пошутить, раз уж вместе протирали штаны на школьной скамье. ‹…›
В завершении письма Золя призвал меня тоже возвращаться. «Париж возрождается, – объяснил он мне, – пришел наш черед править!» Наш черед править! Я решил, что Золя немного увлекся – по крайней мере, говоря со мной. Но при этом он предлагал мне вернуться в Париж. Как давно я не видел Лувр! Только в тот момент – Вы меня поймете, месье Воллар, – у меня никак не выходил один пейзаж. Поэтому я задержался в Эксе – продолжал учиться sur le motif{519}.
Очень немного сохранилось от того периода. Но долетевшие искры распаляют воображение. Лоренс Гоуинг великолепно описал «Тающий снег в Эстаке» как «устрашающий образ мира, растекающегося, скользящего вниз по головокружительной диагонали меж кудрявых сосен, которые тоже грозят вот-вот потерять устойчивость, барóчных и настолько органично выписанных на холсте – скользких от влаги и грязно-бесцветных». Как заметил Мейер Шапиро, в этом мире у зрителя нет точки опоры; деревья мечутся – и мы в смятении. Зато в эллиптической композиции рисунка «Вид Эстака», напротив, появляются крыша, стена и ветви отдельно стоящего дерева, «позаимствовавшего изящество и утонченность японского веера», как удачно подметил Анри Луаретт{520}. В мастерской Сезанн пользовался многими источниками, среди которых – как ни странно – модные гравюры журнала «Ля Мод иллюстре». Он сделал по меньшей мере три копии: это «Две женщины и ребенок в интерьере» – с листа, опубликованного 3 июля 1870 года, незадолго до начала войны; «Беседа» – с листа от 31 июля 1870 года, вскоре после ее начала; и «Прогулка» – с листа, вышедшего 7 мая 1871 года, в разгар Парижской коммуны, за две недели до ее кровавого подавления{521}. Эти работы во многом сохранили композицию оригинальных листов (и костюмы), в то же время трансформировав их в нечто более материальное и физиологичное. Даже модные гравюры были «осезаннены». Открытой политической реплики в этом нет. Однако в «Беседе» символично возникает триколор. Он едва заметно колышется на заднем плане; его старательно не замечают.