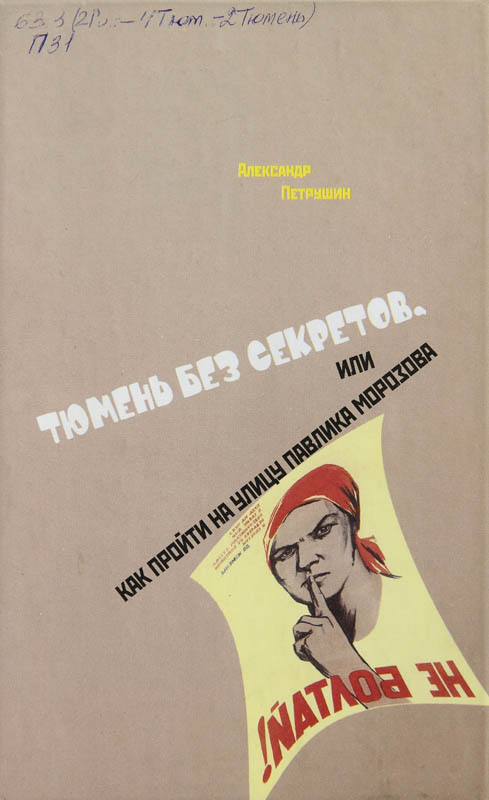и куда он заносил эсдековскую литературу.
Немедленно же об этом я срочно телеграфировал в Департамент полиции и просил об отмене казни и о новом пересмотрении дела. Другим составом суда все семеро были оправданы, а главное – я спас ни в чем не повинного Мартемьянова.
Охранка сейчас же воспользовалась этим случаем и предложила мне завлечь Мартемьянова в секретные сотрудники. Пригласив его к себе, я сказал:
– Вот, Мартемьянов, я Вас вытащил из петли, послужите за это правительству, – и предложил быть у меня агентом.
Мартемьянов ответил:
– Вам, разумеется, я бесконечно благодарен. Лично Вас я высоко ценю и уважаю, но мундир Ваш, господин ротмистр, я ненавижу и поэтому на службу к Вам я не пойду.
Молодец, правильно ответил! Мужчина оказался с характером.
Пришлось мне в Тюмени присутствовать и при казнях. Чтение рассказа Леонида Андреева “О семи повешенных” на меня произвело большее впечатление, чем это было на самом деле. Я больше переволновался днем перед казнью, чем во время самой казни, которая была произведена на задворках тюремного двора в 12 часов ночи при факелах.
На этот раз был повешен некто Мехоношин, типичный каторжанин, который на своем коротком веку убил 28 человек. В 20 убийствах он был изобличен. Последнее убийство он совершил, сидя в тюрьме, когда убил шилом своего товарища. В убийствах остальных 8 человек сознался после окончательного приговора перед самой казнью.
Когда пришли за ним в камеру, он со страху бросился под нары, но когда его вывели на двор, он настолько оправился, что даже запел какую-то каторжанскую песню и на эшафот взошел спокойно. Еще спокойнее, даже стоически умерли той же смертью пять местных крестьян, повешенных за убийство и ограбление одного купца-татарина. Один из них, Пустовойтов, даже сказал: “Ну, за правду и умереть можно!”.
Жуткая была картина, когда их вешали: ночь была темная, ветреная. Факелы зловеще освещали тюремный двор, и, когда один из них уже висел в петле, вдруг во всех церквах стали бить 12 часов ночи. Это был какой-то погребальный перезвон...
Возмутительно себя при этом вели исправник Белоносов и его зять пристав Островский. Когда один из приговоренных, обращаясь ко всем присутствующим, сказал: “Прощайте, православные”, на что солдаты и тюремные надзиратели ответили: “Прощай, царство тебе небесное”, – знаете, что сказал Белоносов? – “Такую сволочь в рай не пускают”, а достойный его зятек Островский, когда повешенный корчился в судорогах, заметил: “Ишь, как танцует мазурку!”. Их бы самих повесить за это, хотя я против смертных казней (после Белоносова был назначен исправником Николай Ефимович Скачков – идеально честный и высоко порядочный человек, светлый луч на темном фоне прежней тюменской полиции).
Я всегда любил поиграть в карты и вот, чтобы мне повезло, от первого же повешенного, от Мехоношина, взял я себе кусочек веревки на счастье. Куда! Еще хуже стал проигрывать, а играю я вовсе не сапогом. Примета для меня оказалась неверной...».
«Что вам сказать еще о Тюмени?»
«...Уж под конец моей службы по всей Сибири разъезжал известный композитор Гартевельт [20], который записывал и перекладывал на ноты песни каторжан, попутно читая лекции о своих впечатлениях и давая концерты.
Был он и в тобольских каторжных тюрьмах и своими впечатлениями о них поделился с публикой в печати, что и сыграло роковую роль в судьбе начальника одной из тюрем Могилянского. Ходившие на месте о его жестокостях слухи подтвердились в печати заявлением такого популярного и, видимо, беспристрастного свидетеля, как Гартевельт. На основании этого заявления, как значилось в выпущенных прокламациях уральской группы партии эсеров, и по постановлению последних Могилянский был убит или, как значилось в прокламациях, он был “казнен”. Очевидно, эти прокламации были отпечатаны заранее, потому что не более как через час после убийства, когда никакого сообщения об этом еще не было, в Тюмени уже были разбросаны по улицам прокламации с точным указанием, что в таком-то часу такого-то числа в Тобольске “казнен” начальник тюрьмы Могилянский по постановлению летучей боевой дружины уральской группы партии эсеров.
Мне так опротивела моя “политическая” служба в Тюмени, трехлетний срок этой службы здесь кончился, а охранники так много делали мне неприятностей, из коих последней, переполнившей чашу моего терпения, та, что они заставили арестовать даже ни в чем не повинного железнодорожного унтер–офицера Печенкина, который показался им подозрительным только потому, что, пользуясь отсутствием своего начальства, он часто переодевался в статское платье и с одним политическим вместе кутили, не зная, что один из них жандарм, другой – политический ссыльный.
От всех этих гадостей я так испортил себе нервы, что решил написать частного характера слезное письмо, что строжайше воспрещалось, к начальнику штаба Гершельману с убедительной просьбой – меня из Тюмени перевести куда-либо на железную дорогу.
Гершельман внял моей просьбе, и в марте 1909 года я был назначен в Оренбург начальником Илецкого жандармского отделения Ташкентской железной дороги».
Когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, жандарм Поляков, дослужившийся к тому времени до подполковника, добровольно ушел на фронт.
«Из всего офицерского состава корпуса жандармов в 930 офицеров нас ушло на войну добровольно не более 20 человек. Семеро – в пехоту, человек пять в кавалерию, столько же в казачьи войска, а трое – в артиллерию...».
После Октября 1917-го Полякова уволили из армии. Корпус жандармов упразднили еще раньше – 4 марта, на следующий день после отречения от престола российского императора Николая II.
Свои воспоминания о жандармской службе в Тюмени Поляков отдал в журнал «Утро России», однако их конфисковали большевики.
Его сослуживец из Пермского охранного отделения штаб-ротмистр Кравец также пытался под псевдонимом «Ника» заниматься литературной деятельностью, но потерпел неудачу. Им не нашлось места в образованной 20 декабря 1917 года Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем. Туда пришли их политические противники, которые не отказались, однако, от жандармского опыта.
Заместитель директора Румянцевского музея, известный историк Ю.В. Готье записал в своем дневнике, что 12 октября 1918