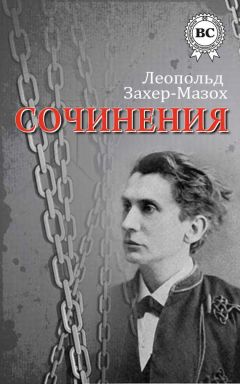Меня вывели из этого заблуждения самым жестоким образом.
В одно утро, когда я принимала холодную ванну, что обыкновенно делала в эти часы, оба мальчика играли в саду.
Вдруг я слышу подъехавшую к дверям карету.
Думая, что Арман прислал ко мне кого-нибудь с поручением, я заглянула через щели прикрытых ставень. Вижу, как секретарь моего мужа, стоящий в саду, передает Сашу через забор отцу, затем сам перелезает через него и все трое уезжают в экипаже.
Ноги подкосились у меня, и я почувствовала, что ослабеваю.
Но я не допустила того, чтобы упасть в обморок, – мне нужны были силы, чтобы действовать как можно скорее.
Женщина, у которой я нанимала квартиру, наверное, была в сговоре с моим мужем; без этого он не мог выбрать именно тот час, когда я принимала ванну.
Но когда она услыхала мой безумный крик и увидела меня лежащей на полу, парализованной от ужаса, мне кажется, она пожалела о своем содействии в этом похищении. Она помогла мне одеться, и я отправилась к адвокату.
Когда я хотела рассказать ему все, что произошло, вместо слов у меня нашлись только слезы…
Я узнала, что он ничего не может сделать для меня, так как не существует закона, позволяющего кому бы то ни было из родителей удержать у себя детей без вмешательства суда и процесса.
Но если возможно для матери какое-нибудь утешение в подобном положении, то я нашла его в горячем сочувствии моего адвоката.
Больше всего меня угнетало вполне определенное сознание, что ребенок навсегда потерян для меня.
Захер-Мазох уже не раз отнимал его и возвращал мне; казалось бы, я могла надеяться, что он и на этот раз поступит так же, а между тем, ни один луч надежды не озарил моего горя; если б я видела моего второго ребенка в гробу, я была бы не более чем уверена, что потеряла его навеки.
Бессознательно, без всякой мысли, точно мои ноги пытались помимо моей воли, я направилась на квартиру Армана.
Но и у него я не нашла ни успокоения, ни помощи. Правда, я видела его слезы жалости и слышала слова надежды и утешения, но моя душа, требовавшая ребенка, не воспринимала ничего другого; передо мной стояла стена, и мир казался возможным для меня только в могиле.
Тогда он снова возбудил во мне энергию, угасшую от страха и горя, выразив предположение, что Захер-Мазох из желания мучить меня похитит и Митчи.
В отчаянии от потери одного ребенка, я совершенно забыла о том, который был при мне.
Мы поспешно бросились в Белиц-Эренфельд, подгоняемые страхом не застать уже и Митчи.
Он был еще там. Мы отнесли все его вещи в экипаж, и Арман, желавший оставить его у себя, увез его с собой в Лейпциг.
* * *
Каждый день я отправлялась в город по направлению школы, которую посещал Саша. К чему я это делала? Я не знаю.
Может быть, мне хотелось быть как можно ближе к нему в тот короткий период времени, на который я еще должна остаться в Лейпциге, так как мы уже твердо решили уехать из него.
Может быть, во мне еще теплился луч надежды: какая-нибудь случайность могла еще вернуть мне ребенка. Спрятавшись за стеной дома, я видела, как он возвращался из школы всегда в сопровождении отца или секретаря, веселый, разговорчивый и счастливый. Иногда он, ничего не подозревая, проходил так близко от меня, что должен был, казалось, слышать усиленное биение моего сердца; меня удивляло, что невыразимая любовь всего моего существа, стремившегося к нему навстречу, не трогала и не смущала его невинной радости.
Безрассудная, эгоистическая, но острая горечь вызывала во мне слезы, и сквозь их завесу я не видела моего ребенка, а только слышала его свежий голосок, ясный, как отдаленный звук серебряного колокольчика.
Я часами бродила вокруг школы, стараясь угадать, какие окна принадлежали его классу; однажды мне пришла в голову мысль подняться наверх, пройти прямо в класс и взять мое сокровище, моего малютку! И я сделала бы это, если б меня не остановил страх, что он может отвернуться от меня и отказаться последовать за мной. А я считала свободу в любви законом, относя это одинаково и к моим детям; я не хотела, чтобы между нами была речь о любви как о долге.
Я очень много страдала в продолжение моего десятилетнего замужества; но как бы то ни было, ни материальные заботы, ни унижение, ни духовное рабство не разбили меня, и все это было ничто в сравнении с беспредельной горечью, причиненной мне этим ребенком, которого я так глубоко любила.
Я ушла и замкнулась в своем горе.
На меня находили минуты, когда моя природа возмущалась этим бесконечным страданием, когда мне хотелось выпрямиться и снова овладеть собой. Все было напрасно.
Моя жизнь коренилась в чувстве любви к детям; без этой любви жизненность моя была подорвана.
Мне помнится, что я вместе с Митчи покинула Лейпциг около середины июня, Арман должен был последовать за нами на другой день.
Мы остановились в первом попавшемся городке французской Швейцарии, в Нейвилле, на берегу Бьеннского озера.
Мы приехали туда поздно ночью. На следующее утро, очень рано, мы с Митчи отправились на озеро. Там было нечто вроде парка: небольшая квадратная площадка, окруженная прекрасными деревьями, и не» сколько скамеек.
Когда Митчи был со мной, он никогда не играл и почти не говорил. Он, как будто затаив дыхание, всецело наслаждался божественным счастьем быть со своей матерью.
Он молча сидел возле меня.
Это было тенистое, прохладное и уединенное местечко. Не думая ни о чем, я наслаждалась очаровательным видом, тихим озером, зеленым берегом Эрлаха на другой стороне, островом Св. Петра, этим цветущим букетом, выросшим среди озера, за которым высятся темные горы, а еще дальше за ними остроконечные зубцы, горящие на солнце, – быть может, облака или вершины Бернских Альп.
Неожиданно я увидела пред собой Армана, смотревшего на меня с растроганным видом, со слезами на глазах.
– Что случилось?
– Когда я пришел сюда, – с волнением промолвил он, – и увидел тебя, сидящую здесь с ребенком, так одиноко, так спокойно в этой чужой стране, я так хорошо понял твое положение, понял, какая ты заброшенная и покинутая теперь, мне стало так жаль вас обоих, что я поклялся себе, что единственная цель моей жизни будет сделать тебя и ребенка счастливыми… А все-таки как это странно! Как мне ни больно смотреть на тебя, все же твое несчастье – причина моего счастья… Теперь у тебя больше никого нет, кто заботился бы о тебе, кроме меня… Пойми, какое это счастье для меня: одному обладать тобой!
Дни протекали мирно и тихо, нарушаемые изредка бурями, вызванными ревностью со стороны Армана. Подобные припадки находили на него точно какой-то недуг, от которого он сам страдал.
Эти смутные и горькие часы причиняли нам обоим боль. Он ревновал меня к солнцу, которое освещало меня, к стенам моей комнаты, окружавшим меня. Когда припадок проходил, он со слезами и рыданиями умолял меня о прощении. И я прощала его, но в эти минуты я чувствовала к нему холод, он понимал это, что еще больше огорчало и мучило его.
Вместо того чтобы держаться ближе в таких случаях, мы избегали друг друга. О, как эти терзания, причиняемые самому близкому существу, отражаются на своем же собственном счастье!
Я лишний раз убедилась в неверности того, что мужчина и женщина составляют одно целое, когда любят друг друга. При всем желании невозможно слить двух людей воедино.
И хорошо, что это так.
Внутренняя жизнь нашего существа должна быть для нас священна; никто другой не должен переступать ее порога, потому что только в одиночестве сохраняется и растет наше я, чистое и сильное; самое главное для каждого – это быть самим собой, вполне цельным существом.
* * *
В Нейвилле мы поселились в спокойном отеле «Сокол», хозяйка которого, вдова м-м Келлер, честная и прекрасная женщина, отлично содержала его.
Арман очень много и даже страстно занимался воспитанием Митчи, которого он любил, как собственного сына, Он повторял с ним уроки, преподавал ему французский язык, но больше всего учил его быть мужчиной: никогда не жаловаться на физическую боль, не бояться ничего, не избегать опасности и всегда творить правду.
Он больше всего беспокоился о том, чтобы сохранить чистой душу ребенка, и вносил в это нежность и заботливость женщины. Митчи платил ему глубокой привязанностью, и вскоре они сделались лучшими друзьями на свете. И так как они оба были веселые, то вечно придумывали какие-нибудь забавные похождения.
И только имя матери заставляло их быть серьезными. Слово «мать» значит для ребенка то же, что и «Бог». Все стушевывалось перед матерью! Мать! Как его детское сердечко трепетало от страха за нее! Когда он входил в комнату, его первый тревожный взгляд был на нее! Та ли она, какой они оставили ее? Не отнял ли кто-нибудь у него частицу ее? Не обидел ли кто-нибудь ее?
О, мать, мать! Какое бесконечное и мучительное счастье! Это тревожное чувство соединяло их. Часто Арман брал ребенка на колени, нежно прижимал к своей груди и ласкал, как бы благодаря его за любовь, которую он питал ко мне. Потом он приносил его ко мне и говорил: