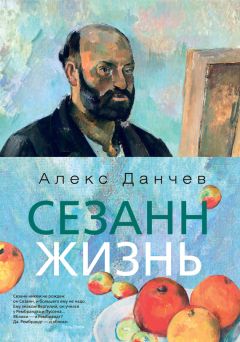В 1860‑х и 1870‑х годах, отчасти под влиянием Писсарро, Сезанн активно штудирует разного рода радикалистские и сатирические листки. Что характерно, сам он над этим иронизировал. «Вообразите, – писал он Писсарро в 1876 году, – я читаю „Лантерн де Марсей“ и собираюсь подписаться на „Релижьон лаик“. Как вам это нравится!» В это же время можно было услышать и его рассуждения о политическом облике правительства в сенате{583}. Еще в 1868 году он писал Косту о карманном политическом еженедельнике Анри Рошфора «Лантерн», под ярко-красной обложкой которого скрывалась горючая смесь антимонархической, антиклерикальной и антибуржуазной полемики; а еще – о новой «сатирической газете Юга» «Галубе». Во время совместной трапезы с Марионом и Валабрегом – когда Марион приготовил блюдо с чесноком и положил сразу двенадцать, а то и пятнадцать долек, – Сезанн потешался над «гражданином Валабрегом», назвавшим чеснок «трюфелем пролетариата». (Сезанн, возможно, вспомнил эпод Горация: «Кто старческое горло задавил отцу / рукою нечестивою, / Пусть ест чеснок, который всех цикут вредней. / О, твердые кишки жнецов!»{584}) Еще в 1865 году гражданин Валабрег сообщал Золя: «Днем часто вижусь с Полем. Он все такой же верный друг. Но все же и он изменился, стал разговорчивым – а ведь казался твоей безмолвной тенью. Он истолковывает теории, выстраивает доктрины; и даже – вот сущее преступление – позволяет говорить с ним о политике (я имею в виду политические теории), а в ответ произносит ужасные вещи в адрес тирана [Наполеона III]»{585}. Так что в своих политических воззрениях Сезанн был отнюдь не безвольным.
Особенно высоко с точки зрения морали и политики Сезанн и Писсарро оценивали знаменитый поступок Курбе в июне 1870 года: он отказался от ордена Почетного легиона. Причем этим не ограничился и опубликовал письмо с отказом в «Сьекль». «Честь – не титул и не лента, – наставлял он министра изобразительных искусств, – это поступок и его побудительный мотив. Государство в вопросах искусства некомпетентно. Вы полагаете, что оказали мне честь, но я отвергаю ваш дар. Мне пятьдесят, и я привык жить как свободный человек; позвольте же мне свободным завершить свои дни. Когда я умру, про меня скажут: вот кто не принадлежал ни одной из школ, церквей, институтов и академий, он был выше всякой власти, если это не власть свободы»{586}. Такая личность была им по сердцу. Через несколько лет Сезанн, благодаривший Золя за экземпляр его последнего произведения, написал: «Не мне хвалить твою книгу, ибо ты, как Курбе, можешь ответить, что мыслящий художник похвалить себя имеет больше права, чем принять почести, дарованные извне»{587}.
В верхней левой части портрета Сезанна – еще одна карикатура: Адольф Тьер, в недавнем прошлом президент Третьей республики. В руках у него – младенец, засунутый в мешок с деньгами. Карикатура появилась на обложке «Эклипс» в августе 1872 года с подписью «La Délivrance»[62]. Она символизировала освобождение Франции от гнета Пруссии в обмен на выплату установленной контрибуции в рекордно короткое время. Правительство страны запросило заем, чтобы выполнить обязательства; более сорока миллиардов франков удалось занять в течение суток – с молниеносной быстротой! Тьер действовал четко, когда нации пришлось собрать волю в кулак. То, что они с Курбе оказались по разные стороны, объективно отражает их политические установки и опыт: при подавлении Коммуны Тьер тоже действовал четко. И все же их отношения были сложнее, чем это следует из голых фактов. Тьер по-своему любил искусство и обладал собственной коллекцией. И хотя живопись Курбе, как и его взгляды, представлялись ему спорными, он все же оградил художника от жестких преследований; Курбе, со своей стороны, спас бóльшую часть коллекции Тьера от гибели во время Коммуны. Отставка Тьера в мае 1873 года ускорила изгнание Курбе: художник остался без покровителя. Но их судьбы тесно переплелись.
Для полноты картины добавим, что автором карикатуры на Тьера был Андре Жилль, человек независимый, близкий друг и политический союзник Курбе. Во время Коммуны Жилль служил хранителем в Люксембургском дворце; он стал одним из наиболее активных членов федерации художников. Когда Курбе отказался от ордена Почетного легиона, он отметил это новой карикатурой в «Эклипс», которую подписал «Courbet avant la lettre»[63] (обыгрывая то самое письмо): на ней была разухабистая фигура – художник, раздувшийся от важности, сердито поджигает трубку с помощью лоскута, так похожего на орденскую ленту.
Эта история со многими действующими лицами, видимо, была хорошо известна Сезанну и Писсарро и не раз ими смаковалась. Портрет – продолжение сюжета. В композиции Писсарро Тьер словно преподносит мешок с деньгами в дар Сезанну – тот, разумеется, сидит спиной. Уж не намек ли это на то, что Франция в долгу перед художником, а может – протест против официальной позиции, сформулированной Ньюверкерке? Что, если это тоже каламбур, кивок в сторону Сезанна через название «Эклипс» («Затмение») (которое четко прочитывается над его головой), ведь он действительно затмил своим внушительным присутствием и коротышку Тьера, и даже массивного Курбе?
Еще одна иллюстрация на портрете, над локтем Сезанна, – пейзаж самого Писсарро «Дорога в Жизор, дом папаши Галье. Понтуаз» (1873): любимый мотив и, конечно, полюбившийся холст. Эта небольшая вещь – знак взаимного почтения. И возможно, еще один понятный им обоим код. Эта же картина более точно воспроизводится в работе Сезанна того же периода «Натюрморт с супницей» (цв. ил. 32), подаренной Писсарро{588}.
Как портрет Писсарро был своеобразной данью Сезанну, так же и натюрморт Сезанна был данью Писсарро. Сезанн ответил приветом на привет. Натюрморт стал продолжением портрета, но в иной форме. Он бытовой, но это не просто предметы утвари: «Натюрморт с супницей» – это и замкнутый мир, и хвала простым радостям жизни. Он тоже был написан в мастерской Писсарро. Скатертью послужила красная шаль мадам Писсарро. Стол заполнен более тесно, чем пейзаж. Все здесь смиренно и грандиозно – сама супница, бутылка вина, спелые красные и желтые яблоки, выпадающие из корзины. Несомненно, Писсарро полотно понравилось. Вскоре оно нашло свое место на стене в его мастерской{589}.
Их «община» завершила свое существование в 1874 году. Сезанн с семьей уехал из Овера в Париж, где они перебрались в квартиру в доме 120 по улице Вожирар, в Шестом округе, недалеко от Люксембургского дворца. Сезанн и Писсарро еще будут работать вместе, не совсем бок о бок (скорее – спиной к спине), в 1875, 1876, 1877, 1881, вероятно, в 1882 и, возможно, в 1885 годах; но насыщенный опыт 1872–1874 годов не повторится. Видимо, повторить его было нельзя. Хотя Сезанн на это надеялся.
Писсарро в мастерской
В столице он не задержался и направился на юг, оставив Пышку и Пончика наслаждаться столичной жизнью. Родители и родные места звали домой. Из Экса он отправил письмо Писсарро – особенно откровенное в том, что касается его чувств к сыну и противостояния с отцом. От «боженьки» у него секретов не было.
Спасибо, что помните обо мне, хотя я так далеко от Вас, и спасибо, что не сердитесь за то, что я не сдержал обещание и перед своим отъездом не заехал к Вам в Понтуаз. С тех пор как я сюда приехал – в субботу вечером в конце мая, – я работаю. Я понимаю, что у Вас много неприятностей. Действительно, Вам не везет, дома у Вас все время кто-то болеет. Надеюсь, что, когда Вы получите мое письмо, маленький Жорж будет уже здоров. А не думаете ли Вы, что климат местности, где Вы живете, вреден Вашим детям? Я очень сожалею, что новые помехи опять не дают Вам работать, я знаю, какое лишение для художника, когда он не может работать. Увидев опять свои родные места, я начинаю думать, что они Вас совершенно устроили бы, они удивительно напоминают Ваш летний этюд с ярким солнцем у шлагбаума железной дороги.
Несколько недель я ничего не знал о своем малыше и очень беспокоился, но вот из Парижа приехал Валабрег… он принес мне письмо от Ортанс; она пишет, что мальчик здоров. ‹…›
Поближе к моему отъезду я напишу Вам точно дату и о том, чего мне удалось добиться от моего отца. Во всяком случае, он разрешил мне вернуться в Париж, а это уже хорошо.
Спустя два года, в 1876‑м, он по-прежнему пытался выманить Писсарро на юг. Следующее письмо может дать некоторое представление о разговорах, которые они вели, когда были рядом, – как художник с художником, понимая друг друга с полуслова:
Я принужден отвечать на Ваш волшебный карандаш металлическим острием, то есть металлическим пером. Осмелюсь ли я сказать, что Ваше письмо полно печали? Дела нашей живописи плохи; боюсь, что Вы поддадитесь меланхолии, но я уверен, что скоро все изменится.