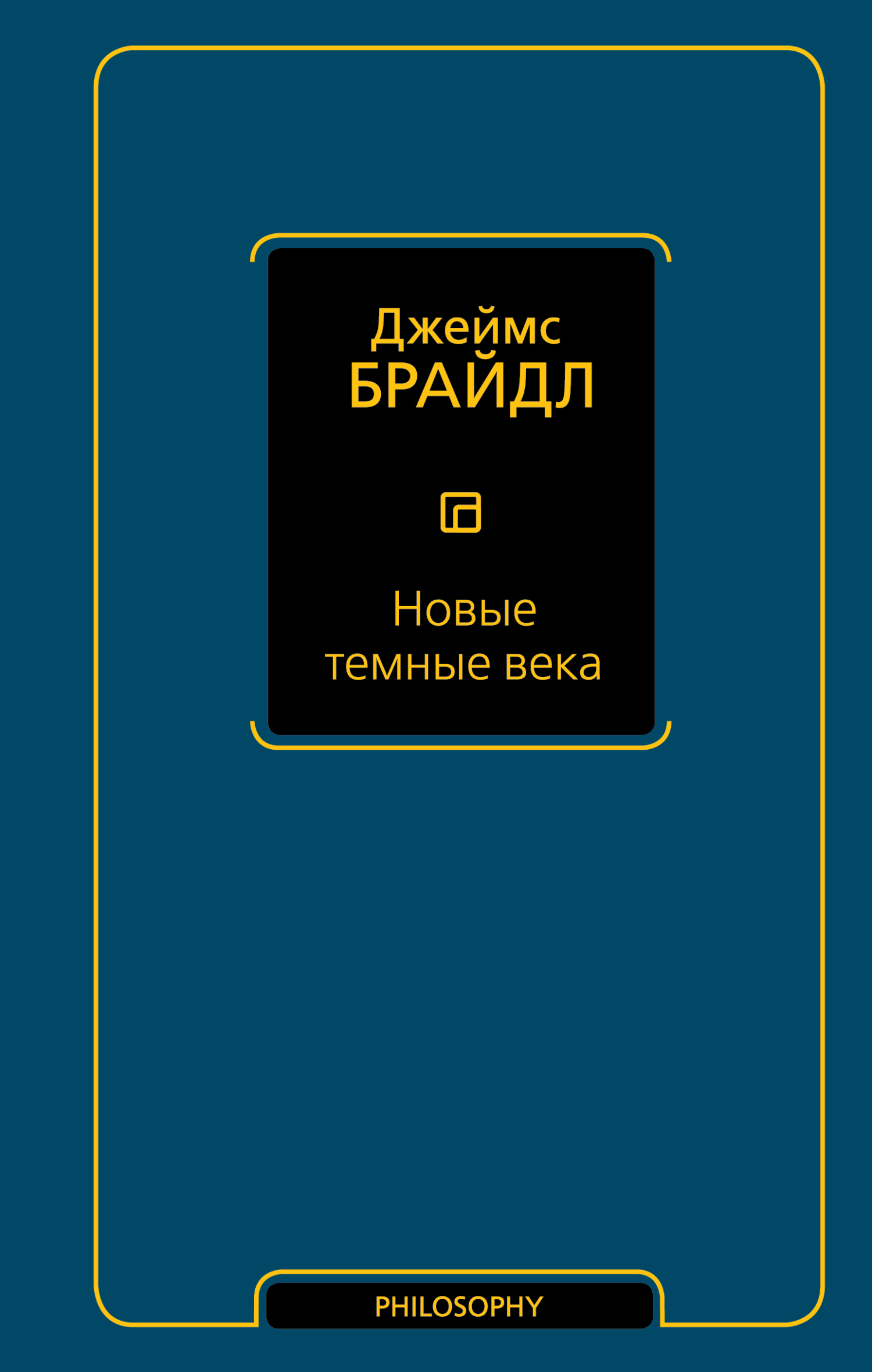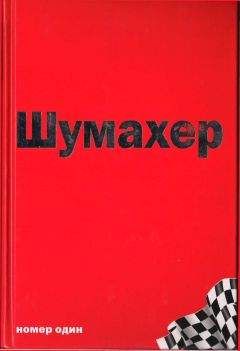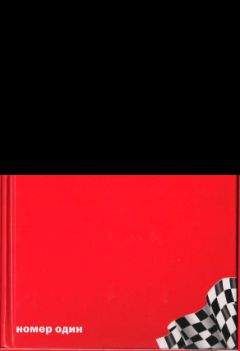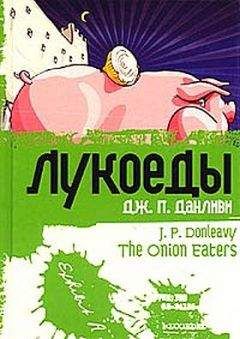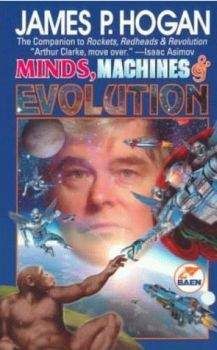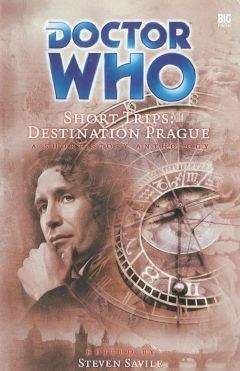бы заметили происходящее. Планы просочились бы. Кто-то бы догадался, кто-то бы среагировал и предотвратил ужасную резню»(3).
Мировоззрение Шмидта и Google полностью определяется верой в то, что сделать видимым значит улучшить, а технологии позволяют сделать вещи зримыми. Этот преобладающий сегодня взгляд не только в корне ошибочен, но и очень опасен, как в глобальном масштабе, так и в конкретном случае, о котором говорил Шмидт.
Мировые лидеры, в особенности США, а также Франция и Бельгия, у которых ранее в этом регионе были колонии, обладали огромным массивом информации за месяцы и недели, предшествовавшие ужасным события в Руанде, и непосредственно во время геноцида – все эти данные подробно задокументированы(4). В Руанде на тот момент находились представители неправительственных организаций, сотрудники посольств и ведомств многих стран, в то время как ООН, иностранные и государственные департаменты, военные и разведывательные группы – все отслеживали ситуацию и в ответ на эскалацию конфликта эвакуировали свой персонал. Агентство национальной безопасности прослушало и записало теперь уже печально известный всем радиоэфир, в котором звучали призывы к «последней войне», чтобы «истребить тараканов». Генерал Ромео Даллер, командующий миротворческой операцией ООН в Руанде, позднее заметил, что «просто заглушить вещание и вывести в эфир послания, призывающее к миру и согласию, уже значило бы существенно повлиять на ход событий»(5).
В течение многих лет США заявляли, что не располагали данными о творившихся в Руанде зверствах, но в 2012 году в ходе судебного процесса о геноциде обвинение неожиданно предъявило сделанные в мае-июле 1994 года, в период «ста дней геноцида», спутниковые снимки высокого разрешения(6). На снимках, взятых из большого архива, засекреченного Национальным управлением военно-космической разведки и Национальным агентством геопространственной разведки, изображены блокпосты, разрушенные здания, места массовых захоронений и даже трупы, лежавшие на улицах бывшей столицы Бутаре(7).
Ситуация повторилась на Балканах в 1995 году, когда из ситуационной комнаты в Вене сотрудники ЦРУ через спутник наблюдали за расправой над 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребреннице(8). Через несколько дней сделанные самолетом-разведчиком U-2 фотографии запечатлели свежие братские могилы. Президенту Клинтону показали эти изображения только спустя месяц(9). Но с тех пор уже произошло то, к чему призывал Шмидт, и мы видим, что основная проблема не в инертности институтов власти. Сегодня спутниковые снимки массовых захоронений доступны не только военным и спецслужбам. Напротив, на картах Google можно найти изображения заваленных телами канав до и после – как в 2013 году с мечетью Дария к югу от Дамаска(10).
Во всех этих случаях наблюдение со стороны является исключительно ретроспективной силой и совершенно не способно вызвать действия в настоящем; оно полностью подчинено устоявшимся и абсолютно скомпрометировавшим себя властным интересам.
Если в Руанде и Сребреннице чего-то и не хватало, то не свидетельств зверств, а желания на них реагировать. Как отмечалось в одном из отчетов о расследовании убийств в Руанде, «любая неспособность в полной мере оценить геноцид проистекает из слабости политики, недостатка морали и воображения, а не информации»(11). Эта фраза могла бы стать ключевым посылом этой книги: суровое обвинение нашей способности закрывать глаза на происходящее или гоняться за доказательствами, когда проблема заключается не в знании, а в наших действиях.
Заявление о том, что изображения перестали оказывать должное воздействие, не следует воспринимать как аргумент в поддержку тезиса, что чем больше информации, – из каких бы демократичных и децентрализованных источников она ни поступала, – тем больше пользы. Мы вновь и вновь убеждаемся, что технология, которая, если верить Шмидту, противодействует системному злу, на деле сама приводит к насилию и разрушительным последствиям. В 2007 году после оглашения результатов президентских выборов в Кении наступил политический кризис. Если в Руанде ненависть разжигали через радиотрансляции, здесь эта роль перешла мобильным телефонам – вихрь насилия подпитывался текстовыми сообщениями, призывающими этнические группы убивать друг друга. В ходе столкновений погибло более 1000 человек. Вот пример такого «письма ненависти», в котором людей просят распространять личные данные своих врагов:
«Мы заявляем, что кровь невинных кикуйю больше не прольется. Мы забьем их [наших врагов] прямо здесь, в столице. Чтобы справедливость восторжествовала, составьте список луо и калу [этнические группы], с которыми живете рядом или работаете. Напишите, куда и как их дети добираются в школу. Мы дадим номера для отправки этой информации».(12)
Проблема сообщений ненависти была настолько серьезной, что в качестве ответной меры правительство пыталось распространять свои собственные послания о мире и примирении. Именно на риторику в закрытых телефонных чатах возлагали ответственность за эскалацию конфликта гуманитарные неправительственные организации. Последующие исследования показали, что распространение зоны охвата сотовой связи коррелирует с более высоким уровнем насилия, даже если сделать поправку на неравенство доходов, этническую раздробленность и географическое положение(13).
Я вовсе не утверждаю, что спутники или смартфоны провоцируют насилие. Скорее тому виной вера в технологии как благо, бездумная убежденность в их этической нейтральности и, как следствие, наша неспособность переосмыслить свои отношения с миром. Любое некритически воспринятое утверждение о пользе технологий только закрепляет статус-кво. Аргумент со ссылкой на трагедию в Руанде не выдерживает критики – на самом деле все обстоит наоборот. И то, что Шмидт, один из самых влиятельных сторонников цифровой экспансии и сбора данных, выступает с этой идеей перед лидерами государств и международного бизнеса, не только в корне неправильно, но и опасно.
Информация и насилие тесно и неразрывно связаны, а технологии, которые стремятся установить контроль над миром, ускоряют превращение информации в оружие. Это становится очевидным, если проследить исторически сложившуюся связь между военными, правительственными и корпоративными интересами, с одной стороны, и развитием новых технологий – с другой. Мы везде и всюду наблюдаем последствия этой связи, но по-прежнему придаем чрезмерное значение информации, загоняющей нас в порочный круг насилия, разрушения и смерти. Учитывая, что то же самое происходило столетиями с другими ресурсами, у нас нет ни права, ни возможности пренебречь этим пониманием.
О том, что «данные – это новая нефть», в 2006 году первым сказал Клайв Хамби, британский математик и разработчик программы лояльности для супермаркетов Tesco(14). С тех пор фраза обрела популярность сначала среди маркетологов, затем предпринимателей и в конечном итоге среди руководителей больших компаний и политиков. В мае 2017 года журнал The Economist посвятил этому тезису целый выпуск, заявляя, что «смартфоны и Интернет сделали данные большими, повсеместными и гораздо более ценными… Собранные данные дают компаниям больше возможностей улучшать свои продукты, что привлекает больше пользователей, генерирует еще больше данных и так далее»(15).
Во время выступления в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире поставщике нефти, генеральный