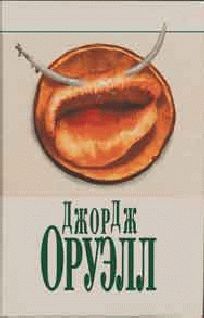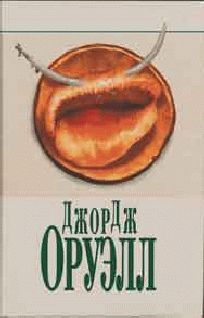Боготряс ведет жизнь упорядоченную, размеренную и не тратит времени понапрасну. Если мир вокруг него рухнет, у него не возникнет сомнений. Кто устроил его, тот и спасет от гибели в самое последнее мгновенье; а коли его уже не спасти, — тот вновь восстановит его по разрушении, с тем чтобы все было по слову его, верно и нерушимо. Большинство погибнут, ибо не слушают его слова. Но те, что слушают, не погибнут по-настоящему. Из всех бед и опасностей бывал спасен Боготряс. Тысячи пали вокруг него. Он же, однако, здесь, и ничего с ним не случилось — разве этого мало?
Во всегдашнем своем смирении, Боготряс не видит здесь никакой собственной заслуги. Ему известна людская глупость, и он сожалеет О ней, ведь иначе людям могло бы житься и легче, и лучше. Но они не желают. Воображают себя свободными и даже не подозревают, до какой степени порабощены самими собою.
Когда Боготряс гневается, он грозит им. Не своими словами, для бичевания есть слова получше. Тогда он поднимается и стоит, напружив шею и скатывая громы гремящие, извергает огонь и мечет молнии, потрясая весь этот сброд до слез. Зачем снова не послушали его, когда же наконец станут к нему прислушиваться?
Боготряс — видный мужчина, с звучным голосом и пышной гривой.
Звездосветная избегает безжалостных солнечных лучей. Они нескромны, бестактны, до боли ярки и резки; много есть в каждом такого, что желало бы дождаться своей минуты, но это бесцеремонно извлекается наружу, раскладывается для всеобщего обозрения, освещается и раскаляется, до тех пор, пока уже больше и не понять, где, в ком это, собственно, находилось, — в этом, в том ли, или во всех.
Звездосветная питает пристрастие к кристаллам, они-то не открываются. Даже самые прозрачные из них надежны в своей твердости, и потому, что бы там ни виднелось, этого не заполучить. Ее сердце принадлежит всему надежно замкнутому, на которое падает слабый и проверенный свет. Пусть он и нашел к ней путь от звезд, однако — ничего не зная о ней, до того как отыскать, а она долго и настороженно поджидала в своей укромной защищенности, пока он дойдет до нее, — неуверен и тускл.
Лишь раз в жизни заглянула она в телескоп, о, как мучил ее за это стыд! Ей почудилось, будто она беззастенчиво бросилась навстречу одному из этих ночных светил и принудила его блистать для себя ярче, чем хотелось ему самому. Она не забыла того, каким оно вдруг стало одиноким, отделенное от других, сообщавших ему эту спокойную тишину и звенящее равновесие. Она вырвала его для себя из целого неба, ее глаз, всегда неспешный и осторожный, вытаращился на него, и она испугалась, что теперь оно погублено и потеряно для небес навсегда. Она отпрянула от окуляра, предала анафеме прибор, и неделю за неделей потом несла на свой лад покаяние за совершенное, избегая глядеть на эту треклятую звезду. А когда отважилась снова ее поискать и нашла, то так была счастлива, что купила на радостях орудие своего позора, разбила его вдребезги и разбросала осколки в ночной темноте.
Звездосветная облегченно вздыхает, когда скрывается солнце, и желает, чтобы оно никогда больше не возвращалось. Дни проводит в затененных местах и работает лишь затем, чтобы скоротать время до вечера. Ее кожа чиста, словно солнечный свет. Но она этого не знает, так как не видит себя. Она еще не потратила на себя ни одной мысли. Ее единственное зеркало — ясная ночь, и состоит оно из такого множества точек и точечек, что в отражении нет цельности. Где ее начало? Где скрыт предел? Возможно ли ясно представить это, не увидев себя?
Приходят мысли, Звездосветная держит их при себе, опасаясь растерять, если выскажет вслух. Но они не отвердевают в ней, прибывают и сокращаются, и когда опять становятся так малы, что ускользают от нее, тогда просыпаются в других.
Дёргальщик имеет дело с памятниками: щиплет великих, Полубогов и Героев, за штаны. Из бронзы, из камня ли — они оживают под его рукой. Некоторые из них возвышаются посреди оживленных площадей, с такими лучше не связываться. А вот те что в парках — прямо как по заказу. Он крадучись вьется вокруг или прячется и караулит в кустах. Когда скрывается из виду последний посетитель, он выскакивает из своего укрытия, ловко взлетает на постамент и пристраивается рядом с Героем. Тут он стоит некоторое время, собирается с духом. Он полон почтительности и хватает не сразу. К тому же надо прикинуть, где сподручнее взяться. Недостаточно положить руку на какую-нибудь округлость, он непременно должен захватить что-то между пальцев, иначе и не дернешь. Ему нужны складки. И ухватив подходящую, он долго не отпускает, а ощущение такое, будто закусил ее зубами. Он чувствует, как величие переходит на него, и его охватывает трепет. Теперь ему ясно, кто он в действительности такой и на что способен. Теперь он вновь полон решимости (тут он дергает по-настоящему), сила бурлит и пылает в нем— завтра он начинает.
Дёргальщик не пытается вскарабкаться выше, это было бы непристойно. А он мог бы вскочить на это каменное плечо и шепнуть кое-что Герою на ушко. Он мог бы оттаскать его за ухо и предъявить ему немало претензий. Но уж это было бы верхом нечестия. И он довольствуется подобающей ему скромной позицией, все еще держась за складки брюк. Но если он прилежен, не пропускает ни одной ночи и дергает все сильней и сильней, то приходит однажды день, белый день, когда он мощным броском взметывается наверх и перед всем миром злорадно плюет Герою на самую макушку.
Маэстрозо, если вообще передвигается, то вышагивает по колоннам. Они неторопливы, но держат надежно. И им есть что держать. Там, где колонны понижаются, образуется храм, и в мгновение ока стекаются обожатели. Он возносит трость, и все смолкает, а он заполняет воздушное пространство размеренными знаками. Поклонники не издают ни звука, поклонники медитируют, поклонники ловят знак за знаком, силясь открыть их смысл.
В паузах между возвышенными мгновениями Маэстрозо питается икрой. Времени мало, сейчас он вновь займет свое место. Однако он ничего не совершает в одиночестве, их много здесь, обступающих его и глядящих на икру, предназначенную для него одного. Маэстрозо мелодично рыгает.
Маэстрозо торжественно разъезжает по свету, все камни спешно устраняют с его пути; камни, горы и моря. Он восседает в своем особом персональном купе, и адепты с обнаженной головой толпятся в проходе, в то время как его рука размашисто и мощно наносит пометы в листах лежащей перед ним партитуры, отмечая то, что дозволено только ему, только его руке, а остальные, стоящие Снаружи, благоговейно провожают взглядом каждое из его движений. Поезд останавливается, стоит ему только приподняться, и не едет дальше, пока он не усядется снова; поезд не делает остановок ни в одном из мест, для которых нет на то волеизъявления Маэстрозо, и останавливается в угоду ему в чистом поле.
В каждом из храмов Маэстрозо оставляет по женщине, верно и терпеливо ждущей его, как в стародавние времена. Она сидит и сидит тут, и принадлежит ему вся, от детей до ногтей и корней волос, и когда он вновь приходит, ступая с колонны на колонну, — еще и нескольких лет не минуло, — она трепещет и стоит, молясь, в рядах поклоняющихся ему. Он ее видит, однако не пришло пока время узнать ее, кто ждал вечность, подождет и еще немного. Но вот… вот… он кивает — это ей, ей из всех он кивнул, да она бы позволила сжечь себя на костре за этот наклон головы!
Маэстрозо известно, что придет старость, он знает число прожитых лет. Когда он особенно доволен явлением своей особы, то устраивает небольшое празднество, во время которого и другим дозволяется посидеть и выпить, но никогда он не пьет того же. Затем он улыбается (не бывало еще, чтобы он смеялся) и велит поочередно каждому из окружающих подойти к нему. «Покажи-ка руку!» — требует он и окидывает сведущим оком ладонь. Он сообщает стоящему перед ним, как рано предстоит тому умереть, и подзывает следующего.
Придуманная никогда не жила на свете, и все-таки она здесь и настойчиво заявляет о себе. Она очень красива, однако для всякого — по-иному. Описания ее внешности безудержно восторженны. Одни особо отмечают волосы, другие — глаза. Впрочем, в отношении цвета царит полнейшее несогласие: от сияющего золотисто-синего до глубочайшего черного, что относится также и к волосам.
Придуманная — всякого роста и любого веса. Многозначителен и многообещающ блеск ее зубов, которые она охотно обнажает снова и снова. То сжимается, то полнеет ее грудь. Она ступает, она возлежит. Она нага, она пышно разодета. Об одной лишь ее обуви и то собрана сотня разных свидетельств.
Придуманная недоступна, Придуманная податлива и покорна. Обещает больше, чем выполняет, выполняет больше, чем обещает. Она порхает, она пребывает на месте. Она не произносит ни слова, сказанное ею незабываемо. Она разборчива, она не отвергает никого. Тяжела, словно земля, легка, как дыхание эфира.