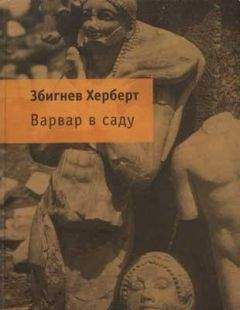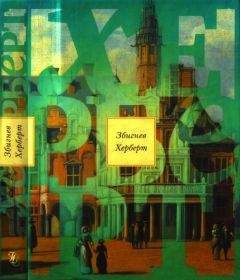У основ симметрии, понимаемой, впрочем, не только как эстетическая директива, но и как выражение упорядоченности вселенной (ведь можно говорить также и о симметрии судеб в античной трагедии), лежал модуль — точно определенная исходная мера, повторяющаяся во всех элементах сооружения. «Симметрия родится из пропорций, пропорциями здания мы называем исчисление как отдельных частей, так и целого в соответствии с установленным модулем», — с римской простотой пишет Витрувий. На самом деле все обстоит не так просто.
Достаточно спорно, что было модулем дорического храма — триглиф или половина толщины колонны. Некоторые теоретики считают главной пропорцией, характеризующей этот ордер, отношение высоты колонны к высоте антаблемента, то есть фриза, карниза и архитрава вместе взятых. Трудность состоит в том, что разные архитекторы для одного и того же ордера устанавливают разные соотношения. Так, у Витрувия для ионического стиля мы находим пропорцию 1:6, а Альберти{26} для этого же стиля дает отношение 1:3,9. К тому же анализ сооружений показал, что в собственной практике авторы канонов их не придерживались.
Можно, конечно, это объяснить определенной приблизительностью, что было следствием несовершенства измерительных инструментов либо сопротивлением материала. Однако такое объяснение будет неполным.
Поиски абсолютного канона, единого числового ключа, открывающего все сооружения рассматриваемого ордера, не боле чем бесплодная академическая игра, оторванная от конкретики и истории. Ведь ордеры эволюционировали, что ясно видно в Пестуме, когда сравниваешь архаическую Базилику с храмом Геры, творением зрелой дорической архитектуры. Убедительней всего это демонстрирует высота колонн, которая в первоначальной дорике составляла 8 модулей, а впоследствии 11 и 13.
Еще одной основополагающей ошибкой искателей канона, неистовствующих с линейкой и угольником над беззащитными схемами храмов, было то, что они не принимали во внимание ни высоту сооружения, ни то, с какой точки рассматривается оно, иначе говоря, интерпретировали пропорции линейно, без учета угла зрения. Теория угловых коэффициентов, использованная при исследовании греческой архитектуры, объясняет множество недоразумений и устанавливает истинное значение канона в искусстве. Ибо они являются величинами переменными и применяли их по-разному, в зависимости от того, какой строили храм — маленький, средний или большой. Также и соотношение антаблемента и колонны тем больше, чем больше высота ордера и чем меньше расстояние, с которого смотрят на храм. Асакральные сооружения в Пестуме находились в центре города, то есть рассматривали их с небольшого расстояния, чем, между прочим, объясняется мощный антаблемент храма Геры.
Таким образом, греческое искусство является синтезом разума и глаза, геометрии и законов зрения. Это проявляется и в отступлениях от канона. Там, где геометр начертил бы прямую, греки незначительно искривляли горизонтальные и вертикальные линии: легкий прогиб основания храма, стилобата{27}, угловые колонны чуть-чуть наклонены к центру. Такая эстетическая ретушь придавала зданию жизни, о чем не имели понятия подражатели классическим творениям. Парижская церковь Сент-Мадлен, Пантеон Суффло{28} так же соотносятся с шедеврами, служившими им образцами, как птица из орнитологического атласа с птицей в полете.
Можно задать себе вопрос, почему дорический ордер, в нашем восприятии самый совершенный из всех ордеров античной архитектуры, уступил место другим. Ренессансный теоретик пишет: «Иные древние архитекторы утверждали, что не следует строить храмы в дорическом стиле, поскольку у них неверные и ненадлежащие пропорции». В позднейшие периоды широко обсуждалась проблема размещения триглифов так, чтобы они находились над каждой колонной и межколонным пространством — по оси колонны и по оси межколонного пространства, а также чтобы они смыкались по углам фризов. Но то была уже проблема скорей орнаментальная, чем конструктивная. И это было свидетельством того, что храмы переставали быть местом культа, а превратились в украшение города.
Искусство дорийцев глубже и естественней было связано с религией, чем позднейшие ордера античной архитектуры. Даже самим материалом, из которого возводили храмы. Мрамор ионического и коринфского стилей означал холодность, официальность и помпезность. Утонченные боги утратили свое могущество. Совсем не все равно, приносишь ты жертву Афине из золота и слоновой кости или из грубого камня. Для дорийцев эта богиня была царевной кочевников, голубоглазой девой с мускулатурой эфеба. Укротительницей коней. Вот так же и Дионис, некогда покровитель темных сил и оргий, со временем превратился в добродушного бородатого пьянчугу.
Чтобы полностью реконструировать храм дорийцев, его следовало бы раскрасить ярко-красным, синим и охрой. Но тут дрогнула бы рука даже самого отчаянного реставратора. Мы жаждем видеть греков белыми, отмытыми дождями, лишенными страсти и жестокости.
А для полной реставрации надо было бы воспроизвести и то, что происходило перед храмом. Ибо что такое храм без религиозных обрядов? Кожа, содранная со змеи, показная наружность тайны.
На восходе солнца, когда приносили жертвы небесным богам, на закате либо ночью, когда чтили подземные силы, процессия во главе с мистагогом{29} шла к жертвеннику, находящемуся перед храмом.
Нестор, коней обуздатель,
Руки умывши, ячменем телицу осыпал и, бросив
Шерсти с ее головы на огонь, помолился Афине;
Следом за ним и другие с молитвой телицу ячменем
Так же осыпали. Несторов сын, Фрасимед многосильный,
Мышцы напрягши, ударил, и, в шею глубоко вонзенный,
Жилы топор пересек; повалилась телица; вскричали
Дочери все, и невестки царевы, и с ними царица…
Те же телицу, приникшую к лону земли путеносной,
Подняли — разом зарезал ее Писистрат благородный{30}.
Так было, а теперь здесь бродят экскурсии, гид бесстрастным голосом сообщает с бухгалтерской точностью размеры храма. Сообщает количество недостающих колонн, словно извиняясь за разрушения. Указывает рукой на алтарь, однако заброшенный этот камень впечатления ни на кого не производит. Будь у туристов побольше воображения, они, вместо того чтобы щелкать «кодаками», привели бы быка и зарезали перед алтарем.
Впрочем, недолгая автобусная экскурсия не дает представления, что такое греческий храм. Среди колонн надо провести хотя бы день, чтобы понять жизнь камней под солнцем. Они меняются в зависимости от времени дня и поры года. Утром известняк Пестума серый, в полдень — медовый, на закате — пламенный. Я прикасаюсь к нему и ощущаю тепло человеческого тела. Как дрожь, по нему пробегают зеленые ящерки.
* * *
День кончается. Небо бронзового цвета. Золотая колесница Гелиоса опускается в море. В эту пору, как говорит Архипоэт, «темнеют все тропки». Сейчас перед храмом Геры розы, которые воспевал Вергилий, «biferi rosaria Paesti»[5], источают одуряющий аромат. Колонны впитывают живое пламя заката. Еще недолго, и в темнеющем воздухе они будут стоять как сожженный лес.
Тысячи разноцветных лампочек, висящих на улицах, раскрашивают головы прохожих шутовскими красками. Открытые двери и окна полны музыки. Крохотные площади кружатся, как карусели. Впечатление, будто запрыгнул в центр грандиозного празднества. Таким предстал мне Арль в первый вечер по приезде.
Я снял номер на самом верхнем этаже в гостинице напротив музея Реаттю на узкой улочке, глубокой, как колодец. Заснуть было невозможно. Это был не шум, а всеохватное градотрясение.
Я пошел к бульварам вдоль Роны. «Стремительная река, рождающаяся в Альпах, ты катишь с собою ночи, и дни, и мои желания туда, куда тебя влечет природа, а меня любовь»{31}. Так пел Петрарка. Рона действительно могучая, темная и тяжелая, как буйвол. Светлая провансальская ночь, прохладная, но с затаенным где-то на верхнем пределе зноем.
Пью «Котдю Рон» в «Кафе де л’Альказар». И лишь цветная репродукция над стойкой напоминает мне, что это же тема знаменитой картины Ван Гога «Ночное кафе» и что он жил тут в 1888 году, когда приехал в Прованс в поисках синевы, стократ более интенсивной, чем лазурь неба, и желтого, которое ослепительней солнца. Помнят ли его тут? Может, еще жив кто-нибудь, кто видел его?
Бармен с явной неохотой сообщает, что да, есть один pauvre vieillard, бедный старик, который может что-то рассказать про Ван Гога. Но сейчас его тут нету, он бывает обычно до полудня и любит американские сигареты.