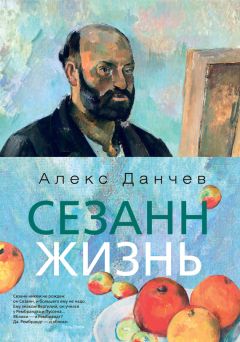Очевидно, Жеффруа сошел с пути добродетели и ступил на тропу порока (или наоборот). Он перешел грань дозволенного. Причина, по которой Сезанн изменил свое отношение к Жеффруа, остается загадкой, особенно если учесть, что художник не перестал высоко ценить его тексты. Сезанн был в восторге от описания египетских саркофагов в Лувре, где он бродил, без конца перечитывая строки, которые знал почти наизусть. Русский коллекционер Щукин имел похожую привычку: каждый раз, приезжая в Париж, он посещал отдел египетских древностей в Лувре и обнаруживал там параллели с сезанновскими крестьянами{797}. Размышления Жеффруа о саркофаге также напоминают нам о Сезанне: «Мы не можем вернуться в прошлое, и современные художники обречены на то, чтобы относиться к искусству как к профессии и распространять свои идеи в обществе. И тем не менее не кажется ли вам, что эта их общественная деятельность перешла все возможные границы, что магазинов стало слишком много, все превратилось в коммерцию и что иногда современному человеку стоило бы пойти и с благоговением взглянуть внутрь саркофага?»{798}
Статьи Жеффруа о Сезанне, казалось, не могли вызвать возражений. Он опубликовал длинную хвалебную статью о выставке 1895 года, где подчеркнул ее значимость и недвусмысленно заключил: «Вы увидите его в Лувре». В том же ключе он писал и о картине Дени «В честь Сезанна», представленной в Салоне 1901 года. Эти тексты, в отличие от первой статьи, проливали свет на личность и характер художника, в них попадались вкрапления сведений частного характера. Едва ли в них было что-то новое, но именно эти тексты приобрели наибольшую популярность. Они кажутся довольно безобидными. Однако Сезанн, вероятно, счел их слишком личными или расценил как покушение на свою частную жизнь. Подобно тому как Гоген украл у него его ощущение, Жеффруа присвоил его склонность. «Сезанн называл себя „живописцем по сердечной наклонности“, полувсерьез-полушутя, но скорее всерьез». Жеффруа подчеркнул его inquiétude, что, возможно, было чересчур, однако он снабдил эти слова необходимым контекстом: «Ищите, смотрите, и вы увидите сами, что если Сезанн, с одной стороны, традиционалист, увлеченный теми, кого он склонен назвать своими учителями, то, с другой стороны, он добросовестный наблюдатель, как примитив, ищущий истины»{799}. Это не самая неприятная характеристика, которую Сезанну доводилось получать.
Бытует мнение, что причиной охлаждения стали их разговоры во время сеансов. Считается, что Сезанну был не по нраву образ мыслей Жеффруа или он попросту обиделся на какое-то замечание. Многие склоняются к тому, что ссора возникла из-за Клемансо, который был героем для Жеффруа, но отнюдь не для Сезанна. По словам Воллара, когда он спросил Сезанна, почему он больше не видится с Жеффруа, тот ответил: «Понимаете ли, Жеффруа неплохой человек и очень талантливый. Но он постоянно говорит о Клемансо, поэтому я сбежал в Экс!» – «То есть Клемансо вам не по душе?» – «Послушайте, месье Воллар! У него есть temmpérammennte, но слабым людям вроде меня лучше уж полагаться на Рим»{800}. Не говоря о сомнительной достоверности этого диалога, само объяснение кажется крайне неубедительным. Жеффруа его категорически отрицал. Оно не очень согласуется и с двумя месяцами совместной работы (и дружеских обедов). Более того, оно противоречит всему, что Сезанн писал в своих письмах. Оно также не подтверждается его тесными отношениями с Мирбо, который подпадает под удар наравне с остальными. Напротив, Сезанн считал его самым выдающимся писателем того времени – и, возможно, отождествлял себя с одним из его героев – и высоко ценил его моральную поддержку, не говоря уже о покровительстве. Для Мирбо Сезанн был le plus peintre des peintres (самым значительным художником из всех). Тринадцать работ Сезанна он считал жемчужиной своей коллекции{801}.
По правде говоря, Клемансо лишь сбивает нас с толку. Это объяснение не столько проясняет суть происходящего, сколько в очередной раз повторяет своего рода догму. Оно основано на предположении об идеологическом расхождении между прогрессивными скептиками, такими как Жеффруа, и старыми чудаковатыми реакционерами, вроде Сезанна, уткнувшими нос в «Круа»: их вера – скала, их церковь – непогрешима, а политические взгляды – подсознательная триада: кровь, земля и шовинизм. Это в общем и целом и есть точка зрения, которую поддерживал и распространял Воллар, а за ним и все остальные. Согласно ей, Сезанн предстает перед нами простодушным стариканом в глубоком маразме, политическим простачком, идущим проторенной тропой, неизменным приверженцем le bon droit[85] в любых его проявлениях – будь то Церковь, государство или армия – и даже африканеров{802}. Эта точка зрения словно бы игнорирует присущие ей противоречия: например, то, что Сезанн всю жизнь поносил le sale bourgeois, не говоря уже о «паршивом аббате Ру» («Он очень навязчив»). Она полностью лишена здравого смысла. «Я обращусь за помощью к Средневековью», – ехидно шептал он у купели. «Мне кажется, доброму католику, – писал он своему сыну в конце жизни, – неведомо чувство справедливости, зато выгоды своей он не упустит»{803}.
К слову, о шовинизме: считается, что Сезанн заразился им от Жоашима Гаске, который воспевал «кровь Прованса» и со временем стал консерватором, монархистом и даже расистом, сохранив при этом свойственную ему высокопарную манеру. Он восторженно писал о картине Сезанна «Старуха с четками» (цв. ил. 61) как о провансальском национальном символе и изо всех сил постарался представить художника этаким кающимся Достоевским. Все его попытки были обречены на провал. Гаске плел дикие небылицы о том, что старуха некогда была монахиней, но, отступившись от веры, пошла бродяжничать и просить милостыню, а затем нашла приют у великодушного Сезанна. Сам художник прямо говорил, что она была служанкой у адвоката Жана Мари Демолена, друга Гаске, с которым он работал над литературным журналом «Ле Муа доре», где излагал свои взгляды{804}. Позор тому, кто символы узрит, как мог бы выразиться Сезанн{805}. Движение за национальное возрождение Прованса обладало определенной притягательностью для его уроженцев, к тому же Сезанн и сам любил немного приукрасить историю. Гаске умел зажечь собеседника своими идеями. Вероятно, он напоминал Сезанну о молодости и дружбе с Золя. Они ездили по излюбленным местам Сезанна. Быть может, он видел в Гаске лучшие стороны своего сына, который к тому моменту окончательно обосновался в Париже. «Мой сын прочел вашу статью с большим интересом, – сказал он Гаске. – Он молод, он не может не разделять ваши надежды». Когда Сезанн познакомился с Гаске, тому было 23 года, всего на два года меньше, чем сыну Сезанна, но он был живее, цельнее, умнее. Как бы трепетно Сезанн ни любил своего сына, он не мог не замечать его недостатки. Он искренне писал Камуану: «Мой сын нынче в Париже, он большой философ. Я не имею в виду, что такой же великий, как Дидро, Вольтер или Руссо… Он довольно обидчив, холоден, но в целом добрый малый»{806}.
Однако всему есть предел. Сезанна восхищала серьезность (и интеллектуальная страсть), но любой намек на тщеславие был ему отвратителен. Гаске был воплощением тщеславия – одновременно высокомерный и льстивый{807}. Его задача состояла не только в восхвалении прошлого – «это своего рода бальзамирование Прованса», писал Сезанн, удостоив его комплимента, по сути обращенного к самому себе. Возможно, Сезанн и жил в прошлом, как он сам говорил, но при этом не отставал от настоящего. Нужно работать. Когда волна энтузиазма – «слава Провансу!» – отхлынула, Сезанн пошел своей дорогой. Никто не сможет «закрючить» Сезанна{808}. Он стал относиться к Гаске так же настороженно, как и к Жеффруа. «Я живу один, – писал он Воллару в январе 1903 года, – Гаске, Демолены и прочие ничего не стоят, ох уж эта каста интеллектуалов! Ей-богу, они все одинаковы!»{809} Даже когда Сезанн еще проводил время в компании Гаске и его друзей, на художника смотрели косо. «С кем вы встречались на днях?» – спрашивал Луи Оранша один из его марсельских друзей после вечера, проведенного в кафе «Клеман» на бульваре Мирабо. «Говорят, что Гаске анархист, а художника и вовсе считают сумасшедшим»{810}. Сумасшедший или нет, Сезанн был далек от раскаяния. Патриотические выплески не всегда следовало принимать за чистую монету. «Мои патриотические чувства польщены тем, что достопочтенный государственный деятель, распоряжающийся политическими судьбами Франции, должен в назначенный срок осчастливить наш край своим посещением, что заставит встрепенуться южный народ города Экса, – писал он Полю. – Жо [Гаске], где же ты? Может быть, в жизни на нашей земле больше всего успех имеют фальшь и условность, а может быть, нужно просто стечение счастливых обстоятельств, чтобы наши усилия достигли цели?»{811}