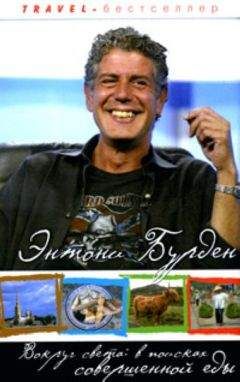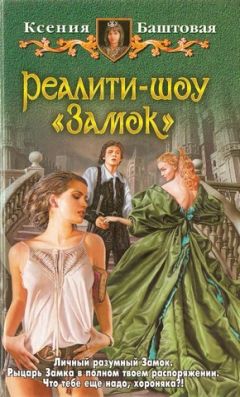Возможно, мне следовало сообщить, что в таджин по-фесски кладут изюм и соленые лимоны. Уверен, что смог бы объяснить зрителям разницу между кускусом, приготовленным вручную, и кускусом из коробки, купленным в супермаркете, поговорить о том, как его готовят, — в специальной посуде-кускусире, — где в нижней части тушатся мясо и овощи, а в верхней — на пару — кускус. Я уверен, что если бы мне удалось надеть на лицо улыбку и собраться с мыслями, если бы у меня достало сил это сделать, я мог бы вызвать Абдельфеттаха на разговор о перспективах этого города. О запланированном им музыкальном центре, о его занятиях. Прекрасно понимая, впрочем, что этот кусок вырежут в монтажной. Мэтью строил рожи и постепенно закипал, часы тикали, каждая секунда падала каплей расплавленного свинца, количество зря потраченной пленки росло. Что я мог сказать? Да, Абдельфеттах здесь нашел себя, но какой бы красивой, праведной, неиспорченной ни была его жизнь, я знал, что никогда бы не смог жить так. Возможно, размышлял я, если бы убрали телекамеры, тогда я смог бы полностью погрузиться в здешнюю атмосферу. Может быть, тогда мне удалось бы расслабиться. И тем не менее, даже при наличии модема, горячей ванны, боулинга, регулярной доставки деликатесов, пиццы и пончиков «криспи-крим» из Нью-Йорка, я бы не смог здесь жить. Никогда. А хозяева дома так уютно чувствовали себя в этом городе, в своей семье, в своей вере, что мне не хотелось заставлять их испытывать неизбежную перед камерой неловкость.
Последнее, что я ел у Абдельфеттаха, это была пастилья, нежный, воздушный пирог с голубем, завернутым в варку и в ней испеченным с жареными орехами и взбитым с корицей яйцом. Как все, что я ел здесь, это было удивительно. И все-таки меня раздирали самые разные чувства. Мне вовсе не нравилось быть телевизионным «подставным лицом». А еще я все время мерз и слишком давно не был дома. А еще я соскучился по комфорту и защищенности своего собственного «города за толстыми стенами» — моей кухни в «Ле-Аль», — по собственной, близкой мне системе ценностей, которую я понимал и принимал без всяких оговорок. Сидя рядом с этими двумя симпатичными людьми и их детьми, я чувствовал себя телеведущей с глубоким декольте, одним из этих медийных деятелей со стеклянными глазами. В компании таких людей я рекламировал и сбывал свою книгу в Соединенных Штатах. «Итак, Энтони, расскажите нам, почему никогда не следует заказывать рыбу в понедельник». Настроение стремительно падало, да что там, оно просто ухнуло в бездонную черную пропасть.
Со мной «тяжело». Со мной «невозможно работать». Это правда. Исполнительный продюсер примчалась из Нью-Йорка, чтобы успокоить мою больную совесть, чтобы я себя лучше чувствовал в проекте. Она показала мне несколько черновых кусков прошлых программ, убеждала меня, что я совсем неплохо справляюсь, когда не забываю смотреть в камеру. Если бы я еще перестал ругаться, курить, поносить других поваров из «Фуд Нетуорк» и перед тем, как отправиться в страну, бросал хотя бы беглый взгляд на ее карту. Через три минуты после начала этой встречи, призванной поднять мою самооценку и укрепить мотивацию, продюсер сообщила, что ее бойфренда похитили пришельцы. Она сказала об этом как бы между прочим, как о матче «Янки» — «Ред Сокс», который смотрела на прошлой неделе. Ее друг устроил у себя дома что-то вроде аэродрома для пришельцев, пояснила она, и я испугался, не услышав в ее голосе ни скептицизма, ни иронии. Нет, она сказала, конечно: «О да, я знаю, он сумасшедший. Совсем крыша съехала. Но я все равно люблю этого придурка». И решила, что этого вполне достаточно. Я ждал продолжения, но его не последовало. Она вновь принялась работать со мной, то тактично указывая на имеющиеся недостатки, то подбадривая. Я даже позволил себе пошутить: поинтересовался, не говорил ли ее бойфренд о ректальном зондировании — об этом часто упоминалось в связи с похищениями. Она не засмеялась.
Я чувствовал себя бесконечно одиноким.
Перед отъездом я поговорил с Наоми, извинился за свое поведение, поблагодарил за то, что они терпели здесь операторов и камеры, выразил сожаление, что приходится покидать их прекрасный дом и этот замечательный город, так толком и не посмотрев на здешнюю жизнь изнутри. Она вручила мне листок бумаги, на который переписала стихотворение Лонгфелло:
Ночь будет певучей и нежной,
А думы, темнившие день,
Бесшумно шатры свои сложат
И в поле растают, как тень [33] .
Надеюсь, что так. Я все еще возлагал большие надежды на пустыню. Она была мне необходима.
От Феса до пустыни пришлось ехать девять часов. Мы миновали заснеженные горы, домики, похожие на швейцарские (наследие французской оккупации), леса и долины, перевалили через Атлас, спустились вниз по плотному, утрамбованному грунту с мелкими камешками. Длинная извилистая асфальтовая лента тянулась на сотни миль. Время от времени мы видели вдали пересохшие русла рек, плоскогорья, горы, скалы, холмы. Примерно через каждые пятьдесят миль появлялся оазис. Некоторые оказывались просто скоплениями вездесущего песка и глины, другие, казбахи [34] , напоминали огромные свадебные торты: дома, мечети, школы, рынки, небольшие участки зелени вокруг высоких пальм. Люди строят там, где есть, или когда-то была вода, или есть надежда, что когда-нибудь будет. Приезжий из Нью-Йорка воспринимает воду как нечто само собой разумеющееся. Но здесь, в пустыне, вода — это вопрос жизни и смерти. Человек селится там, где течет или хотя бы сочится вода. Если не течет и не сочится, он добывает ее из-под земли. Большие оазисы простираются на целые мили. Как правило, это широкие глубокие расселины: тысячи, а то и миллионы лет назад земля здесь треснула, как шоколадный бисквит, который передержали в духовке.
Вдоль дороги стали регулярно попадаться верблюды. Закутанные в синее или черное берберы вели их под уздцы или ехали на них верхом. Я видел женщин с татуировками на лицах. Они тоже носят черное или синее — это цвета племени. И еще кое на кого я обратил внимание в монотонной пустыне, где, проехав тридцать миль, мы не встретили ничего, на чем отдохнул бы глаз, — ни дома, ни деревца, ни травинки. Прямо у дороги сидели одинокие люди. Просто сидели и смотрели. Они забрались в такую несусветную даль только для того, чтобы сидеть и смотреть. Мимо них на скорости восемьдесят миль в час проезжали легковые автомобили и грузовики, и никто ни разу не притормозил. Эти люди в лохмотьях не просили милостыню, не махали водителям рукой, они даже не поднимали глаз. Просто сидели и бесстрастно наблюдали, как современный мир с ревом проносится мимо в клубах пыли.
У Абдула была только одна кассета — «Величайшие хиты Джуди Коллинз». Я попытался уснуть. Я пробовал отключиться, но в конце концов неумолимые трели и переливы песни «Both Sides Now» едва не довели меня до истерики. Кажется, дорога на Рисани никогда не кончится — особенно если тебя сопровождает пение Джуди. Пейзаж менялся: от непрерывной красной каменистой пустыни до захватывающих дух марсианских холмов, валов, глубоких канав с пересохшими руслами, утесов. Но, в основном, это была просто грязь. Временами, выглянув в окно, вообще не верилось, что ты на земле. Ни одной живой души. Иногда, очень редко, попадался глиняный карьер: местность, изрытая глубокими рвами, — чтобы добывать строительный материал. Бродили несколько жалких коз. И в довершение царящей здесь бессмыслицы владельцы участков нагромоздили из камней, размером с бейсбольный мяч, изгороди, отгораживая таким образом пустоту от пустоты. Ни воды, ни деревьев, ни животных — и тем не менее здесь, среди скал, которые тоже казались весьма недружелюбными, жили люди. Наконец показался Рисани, выжженный солнцем, пыльный, неряшливый городок с грязными улицами и взъерошенными жителями. Мы поселились в «лучшей» гостинице, имитировавшей казбах из глины и шлакоблоков: знакомая «тарелка» электрообогревателя, продавленная кровать, заляпанный известкой раструб душа. По крайней мере, в холле продавалось пиво и кормили всегдашними таджином, кускусом и мясом брошетт.
Я-то приехал в Рисани за мешви , зажаренным целиком ягненком, который играл столь важную роль в моих фантазиях. Заранее, по телефону, было договорено насчет группы туарегов, профессиональных проводников по пескам Мерзуги. Но переговорив по своему обшарпанному мобильнику, Абдул сказал мне, что на завтрашний обед в пустыне нам подадут «что-то особенное». Я уже знал, что это значит: таджин, кускус и брошетт. Я был в ярости. Не затем я проделал столь долгий путь, чтобы снова есть кускус. Это я мог съесть прямо в гостинице, как японские и немецкие туристы. Я приехал сюда за целиком зажаренным барашком, барашком по-берберски, мне хотелось рвать его жирное мясо руками, сидя у костра с «синими людьми». Мне нужно, чтобы целый ягненок, хрустящий и соблазнительный, лежал передо мною. «Но, но… — выдавил я, — я хочу мешви! Я просил мешви!» Абдул покачал головой, нажал кнопку на своем телефоне, еще немного поговорил по-арабски, потом сказал: «У них нету целый ягненок. Если хотите, мы можем принести с собой».