— Разве я обманщик?
Старуха не пошевелилась.
— Рукавицын говорит, вы можете дать препарат, — сказала она.
— Не знаю, о чем идет речь.
Она жалко смотрела на меня.
— У вас в лаборатории...
— Повторяю: я не знаю, о чем идет речь...
Старуха замолчала.
— Пожалуйста, — попросил я, — приходите завтра в десять. В институт. Мы обо всем поговорим. Хорошо? Очень вас прошу.
— Профессор, — старуха сделала шаг ко мне, — мой муж умирает от рака. Все уже отказались от него. Все. Понимаете?
Она стояла посреди передней, и ее бил озноб. Нина смотрела то на меня, то на старуху.
— Хорошо, заходите, — я почти втолкнул Оськину к себе в кабинет.
Плотно закрыл дверь. Но в квартиреу нас, я знал, слышно каждое слово.
— Тише! — сказал я.
— Что? — она не поняла.
— Что вы хотите? — быстро спросил я.
— Дайте мужу лечение Рукавицына, — попросила она.
— Никакого лечения Рукавицына не существует.
Она покачала головой:
— Неправда.
Не хватало только начать ей сейчас читать лекцию.
— Чистая правда, клянусь вам... Делаем некоторые опыты на мышах... Но до лечения людей еще очень и очень далеко.
— Все равно, — сказала она, — дайте хоть что-нибудь.
Она не садилась. Продолжала стоять как изваяние.
Я спросил:
— Как вас зовут?
— Дарья Федоровна.
— Дарья Федоровна, почему вы мне не верите? — Не у нее, у меня был сейчас умоляющий голос. — Если бы я мог помочь вашему мужу, неужели бы отказался? Ну как вы думаете? Я не зверь.
Она не сводила с меня взгляда.
— Рукавицын сказал, что у мышей рассасываются опухоли.
Надо было немедленно прекратить этот разговор. Но Оськина стояла не шевелясь.
Я спросил:
— А не сказал он, что эти самые мыши тут же дохнут от столбняка и гангрены? И мы пока бессильны помешать этому?
Она недоверчиво возразила:
— Скольких в городе он колол — и ничего.
— Счастливый случай. Еще бы немножко поколол — и убил бы кого-нибудь. Непременно.
Оськина тяжело вздохнула.
— Пусть, — произнесла она тихо.
Я крикнул шепотом:
— Что вы говорите? Отдаете себе отчет?
Она спросила:
— А сидеть сложа руки лучше?
Я знал — Нина слышит каждое наше слово.
— Тише! — попросил я.
— Что?
— Тише! Да как вы можете так рассуждать?! — сказал я. — Какое имеете право? Откуда вы знаете, сколько ему жить осталось?.. Только на минуту представьте: из-за вашего легкомыслия муж погибнет в страшных муках... Вы видели когда-нибудь столбняк? А гангрену? Лежит человек в полном сознании, страшные боли, и заживо гниет. Как в могиле. Ничего нет страшнее. Любая другая смерть покажется избавлением, сущим раем... Место вы себе потом найдете? Захочется жить после этого?
Оськина снисходительно посмотрела на меня.
— Профессор, — сказала она, — знаете, сколько мы с ним настрадались... О!.. Вся наша жизнь была наперекосяк. И разлука, и бедность. Только-только начали входить в норму... За все, что мы с ним натерпелись, должно же нам повезти. Я верю. Не погибнет он от заразы, пронесет... Дайте ему препарат. Весь грех перед богом и людьми я беру на себя.
Оськина стояла передо мной. Платок съехал с ее головы.
— Это невозможно, Дарья Федоровна, — сказал я.
Она не пошевелилась.
— Не дадите?
— Нет. Я не могу сделаться убийцей вашего мужа.
После долгого молчания она сказала:
— Да, конечно... Я понимаю... Вы не можете...
Она повернулась и пошла из комнаты.
Нина по-прежнему стояла в передней. Спиной прислонясь к дверному косяку.
Оськина с ней не попрощалась.
Нина проводила ее взглядом.
Я закрыл за старухой дверь.
Нина не задала мне ни одного вопроса.
Но в тот вечер — впервые не таясь меня — она заплакала.
Я сидел рядом и молча гладил ее волосы.
— Товарищ председательствующая! — сказал прокурор.
Судья вопросительно обернулась к нему.
Гуров встал.
— Товарищ председательствующая, разрешите задать вопрос общественному обвинителю. Невольная улыбка тронула губы судьи.
Как же это он так, Иван Иванович? Старый, опытный юрист должен знать, что общественному обвинителю не задают в процессе вопросов. Не предусмотрено законом.
Гуров выдержал ее взгляд.
— Товарищ председательствующая, — сказал он, — я понимаю, что несколько выхожу за рамки обычной процедуры. Однако прошу сделать такое исключение. — Он посмотрел на адвоката. — Хотя бы в силу состязательности нашего процесса, — добавил он.
Судья покачала головой.
— Нет, — сказала она, — я думаю, нам с вами, товарищ прокурор, — эти слова она произнесла с ударением, — нам с вами нет нужды нарушать процессуальный закон. Верно?
— Не надо заносить ответ Евгения Семеновича в протокол, — возразил Гуров. — Люди в зале услышат, и достаточно... Очень важно, товарищ председательствующая.
Судья пожала плечами. Взглянула на меня: как, мол?
— Готов ответить на любой вопрос прокурора, — сказал я.
— Оля, не записывай, — тихо велела судья.
Я сижу, а Гуров стоит рядом. Низко склонился надо мной.
— Евгений Семенович, — сказал он, — вы уж простите, но весь разговор сегодня такой тяжелый...
Я кивнул. Чего он хочет?
— Мы слышали, как адвокат допрашивал сейчас свидетеля Зайцева... Ни такта, ни совести... Все средства хороши.
Я опять кивнул.
— Но в зале, наверное, есть люди, у которых в результате сложилось впечатление, будто вы могли, но не захотели спасти мужа Оськиной...
К чему он клонит?
— Скажите, Евгений Семенович, вы давали препарат Рукавицына своей больной раком жене?
* * *
Это он меня спрашивает?
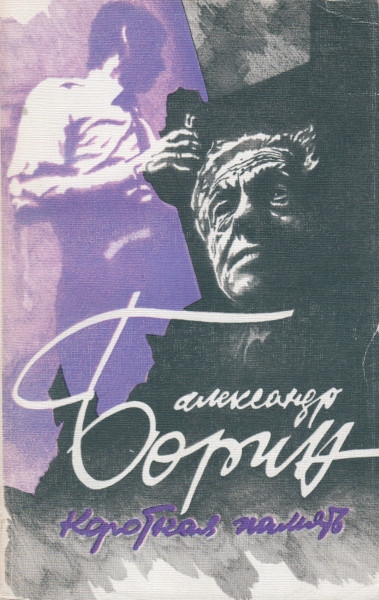
![Александр Гаррос - [Голово]ломка](https://cdn.my-library.info/books/188081/188081.jpg)



