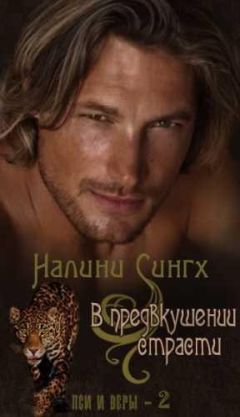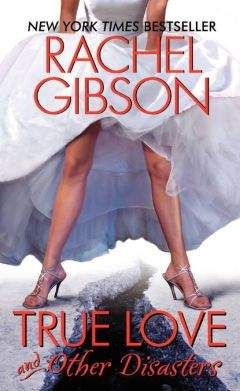— Об этом ты узнаешь, дорогой кузен, когда придет время. А пока что — пойдем выпьем еще пива, Райнульф.
— Очень неприятный человек, — еще раз сказал Райнульф.
— Это так. И все-таки эти «мстители» бывают иногда просто незаменимы. Их в Сицилии несколько, сбежавших от гнева визиря. Даже не знаю, как мы будем действовать без их помощи, если безумные наши друзья Гильом и Дрого выбьют всех сарацинов из Сицилии. Придется искать посредника, а это всегда хуже, чем прямое действие.
— Ты действительно собираешься дать ему сопроводительную грамоту для подстав?
— Да.
— А если его поймают? И грамоту прочтут?
Рагнар не ответил. Грамота, которую он намеревался дать Насибу по выполнению контрольного задания, лежала у него в кошеле. На грамоте значилось:
«Предъявителю выдать любые повозки и столько лошадей, сколько он потребует.
Добронега».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. БРОДНО
Ворота поселения городского типа стояли открытые — заходи, кто хочет. Никакой охраны. Монахов — Андрея, Матвея и Исая — слегка шокировало обилие изображений языческих богов в палисадниках — то тут, то там возвышались в человеческий рост столбики — Диру понравилось, и, прервав душеспасительный разговор с монахами, он занялся узнаванием, тыча пальцем то в один, то в другой столбик:
— Вот, это Род… А то — Даждьбог… А вот Перун, бог всех воинов.
Несмотря на закатное время, тут и там попадались навстречу прохожие. Хелье спрыгнул с повозки, повел лошадь в поводу, и осведомился у первого встречного о местонахождении постоялого двора. Встречный показал рукой и не стал вдаваться в подробности, что показалось Хелье странным, поскольку поляки любят в них, подробности, вдаваться.
Монахи переговаривались тихо, а Дир, устав объявлять имена богов, задремал, привалившись к борту повозки. Попадались неказистые домики с соломенными крышами, не слишком живописные. От недавнего ливня почва все еще была сырая и местами скользкая.
Постоялый двор обнаружился на пологом склоне, ведущем к широкой реке, со столбиком во дворе, с черепичной крышей, с трубой, из которой пригласительно струился прозрачный, приятно пахнущий дымок. Хелье удовлетворенно отметил наличие неподалеку, у берега, старого большого парома — квадратной посудины с мачтой и дряхлым парусом.
Единственную в Бродно церковь сожгли во время первой волны восстаний, полтора года назад.
Хозяин постоялого двора принял гостей, неприветливо глянул на монахов, но с радостью взял с Хелье плату и вскоре подал ужин, состоящий из непонятных однородных блюд, отдаленно напоминавших мясные. Монахи и Дир ели с удовольствием, а Хелье кривился и ворчал.
— Привередливый ты стал, Хелье, друг мой, — заметил ему Дир. — Стареешь, что ли? Жизнь походная — мы в свое время и не такое за обе щеки уминали.
— Где это? — осведомился Хелье.
— Да везде.
— Не помню. И вообще мне Полония разонравилась.
— Смирение, мой друг, смирение.
Хелье насмешливо на него посмотрел.
— Эка тебе голову задурили наши попутчики за эти несколько дней. Не хочешь ли стать священником? Из тебя бы неплохой священник получился.
— Ничего не задурили, — возразил Дир. — Смирение — хорошее качество не только в христианском понимании. Смирение сродни стойкости, неприхотливости, и упорству. У греков были стоики, например.
— И вазы с рисунками у них были.
— Не ворчи.
— А вот у нас в Ростове, — начал Исай, — в это время года…
— Я пошел спать, — грубо перебил его Хелье. — Вы сидите, хвестуйте, сколько вам влезет, обжоры.
Дир засмеялся, и монахи тоже улыбнулись.
Диру действительно нравилось беседовать с монахами — занятные оказались ребята. И спорили они спокойно, без криков, объясняя и разъясняя, что к чему.
— Ну так вот, значит, — сказал Дир, отпив из кружки, — все-таки я не понимаю, что хорошего, если злу не сопротивляться. Я согласен, что Иисус был очень хороший человек, а если он, как вы говорите, сын Создателя, так это вообще просто… даже не описать, и что он своею кровью искупил грехи всех живущих. Уж это всем подвигам подвиг. Но вот все-таки насчет того, что злу нельзя сопротивляться — не понимаю я. Зло тогда распространится на весь мир, везде будет только зло.
— Сопротивляться нужно, — объяснил Андрей. — Но только по-другому.
— Это как же?
— Не ильдом и свердом, а по-другому.
— А другого и нет ничего. Вот Иисус говорил — если бьют по одной щеке, подставь другую. Ну так и по другой врежут.
— А ты терпи.
— Так ведь безнаказанно будет зло. И все больше будет наглеть.
— Нет.
— Как же нет!
— Матвей, скажи, ты у нас самый красноречивый.
Матвей, любивший помалкивать, посмотрел на Дира.
— Если злой человек тебя ненавидит, — сказал он, — и ты будешь его ненавидеть его в ответ, зло ненависти умножится на два. А если ты его будешь в ответ любить, может он устыдится своей ненависти, и зло исчезнет.
— Чего ж ему стыдиться?
— Ну вот к примеру человек совершил зло по отношению к тебе.
— Так.
— Если ты в отместку ему тоже совершишь зло, он, человек этот, не станет ведь лучше.
— Это смотря как… Если хорошо проучить, так он в следующий раз подумает, совершать ли зло.
— То есть, он перестанет делать зло из страха.
— Ну да, — сказал Дир.
— И затаит зло внутри себя.
— А от затаивания зла внутри себя никакого вреда никому нет. Вред от проявлений зла, — отметил Дир.
— Нет, вред от того, что зло в душах.
— Не понимаю, — сказал Дир. — В душах, в душах… Чистые души, нечистые души… Что-то у вас, парни, сложно все.
— Нет, все просто, — вмешался Исай. — Если человек устыдился своего поступка, значит, он стал лучше. Душа у него чище стала. Стыд заставляет мучиться духовно, и это очищает душу.
— Не заметил что-то. Мне, когда стыдно, — разоткровенничался Дир, — так только одно желание и есть — как бы скорее перестало быть стыдно. Бывало, сижу у себя в оранжерее, вспомню что-нибудь — так места себе не нахожу. И думаю — долго еще? Так порой прихватит, так прихватит…
— Это понятно, — сказал Исай. — Кто ж хочет долго мучиться! Но именно это и останавливает зло. В следующий раз, прежде чем совершить злой поступок, человек вспомнит о своих давешних муках совести, и крепко подумает — а стоит ли этот поступок таких мук?
— Но ведь тогда получается, что опять же он боится совершить такой поступок из страха, — логично заметил Дир.
— Да, но из страха перед духовной, а не физической, расплатой. Физическая расплата — когда есть, а когда нет, а духовная, как началась, так все сильнее. Людей бояться — это просто трусость, со всеми бывает, ничем не примечательное чувство. Бога бояться — благодать.
— Да при чем тут Бог, если просто совесть мучает?
— А совесть — чувство божественное, Создателем тебе данное.
— Так уж самим Создателем?
— Ну не на торге же ты ее купил себе.
Дир засмеялся, и монахи тоже хмыкнули. Славные парни, веселые, никого не обижают. Раньше Дир думал, что только воины бывают славные. Эти — не воины. А приятно с ними.
— А вот вы мне рассказывали, что когда Иисуса схватили, один из учеников выхватил сверд и отрубил стражнику ухо. Значит, сверд он все-таки с собой носил, несмотря на непротивление.
— Он был слаб, — сказал Исай.
— Но Иисус все-таки с ним дружил?
— Иисус со всеми дружил, и с сильными, и со слабыми. Все мы дети Создателя, и все мы Создателю дороги. Ты вот сам, Дир, скажи — были у тебя в жизни минуты слабости?
— Для воина это обычное явление, — ответил Дир. — Нужно только уметь слабость преодолеть.
— Но ведь она не сразу преодолевается?
— Как когда. В бою — так просто нет времени об этом думать, преодолеваешь сразу. А в жизни оно сложнее, наверное.
— Дир, а ты видел Владимира? — спросил вдруг Матвей.
— Какого? Крестителя?
— Да.
— Видел, конечно.
— И говорил с ним?
— Конечно, говорил. Однажды мы с Хелье дочку его из беды выручали, так он с нами поехал.
— Выручали из беды? Расскажи!
— Нельзя. Если Хелье согласится, тогда расскажу, а без его разрешения — нельзя никак. Может, это тайна какая великая.
— А которую дочку?
— Не скажу.
— А каков собой был Владимир?
— Ну… Небольшого роста, но крепкий такой. Ежели просто с ним говоришь, так он будто друг твой, но когда он же тебе приказ отдает — так властный у него голос делается, твердый. Я его знал, когда он уже старый был, но верхом ездил — не описать. В седло вскакивал — будто у него крылья, а конь сразу чуял — вот, господин пришел, и подчинялся.
Монахи уважительно слушали.
— А я, помню, застеснялся при нем, — продолжал Дир. — Смотрю на него, и язык отнимается. А он хлопнул меня по плечу, в глаза смотрит, говорит — как жизнь, воин? И сразу никакого стеснения — будто с родным отцом говоришь. Он умел… располагать к себе людей… И, помню, Хелье за глаза его недолюбливал сперва. Так вот, когда Хелье раненый лежал в детинце, Владимир к нему пришел, сам ему рану перевязывал, говорил ласково. А когда умер Владимир, то плач был в Киеве, все плакали, так любили князя.