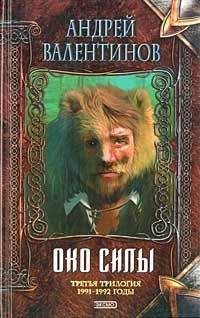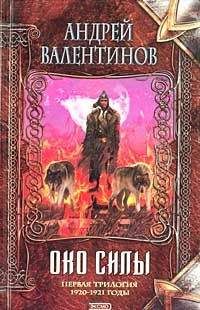Опять боль – и все мысли исчезли. В глазах стало черно, и на мгновение показалось, что он теряет сознание. Это было спасением – хотя бы на время. Анубис, казалось, понял его:
– Не надейся, Косухин. От тока сознания не теряют. Будешь мучиться, пока не изжаришься. Ну что, созрел?
– Молчать… – Степа уже не понимал, что говорит вслух, – молчать…
Что-то слегка задело по лицу – боли он не почувствовал, вернее, эта боль не шла ни в какое сравнение с той, настоящей. Лишь потом Косухин понял – палач в маске ударил его хлыстом… Еще удар, в глазах вспыхнул желтый огонь, и Степа с какой-то неведомой ясностью почувствовал – следующего сердце не выдержит. Но цепи внезапно ослабли. Косухин рухнул на пол, и на него вновь плеснули ведро воды.
– Дурак… Все равно заговоришь, сволочь…
Косухин, услыхав стон, удивился, но затем понял – стонет он сам. Степа постарался собрать остаток сил. Каждая минута – выигрыш для Наташи и для белого гада, который получит свой пропуск к зеленому морю…
– Нет, не спятил, иначе пел бы птичкой!
– Но вы же обещали?
– Хотите сами попробовать?
Голоса доносились, как сквозь вату, но Степа узнал того, кто говорил с Анубисом. Гольдин… Пришел полюбоваться, упырь!…
– Я всегда говорил, что не в восторге от ваших методов…
– Прикажете поить его чаем с лимоном?
– Нет. Но если он умрет, мы ничего не узнаем…
Степа насторожился. Даже сейчас он помнил о Венцлаве и его полночных допросах. Мелькнула надежда – эти такого не умеют! Как бы подтверждая его мысли, Гольдин негромко бросил:
– Сам не захотел – поручил нам. Вот, кстати, ответ из Иркутска… Делать нечего, зовите Гонжабова…
– Ради этого мальчишки?
Гольдин не ответил, и через секунду хлопнула дверь. Косухин чуть приоткрыл глаза. Анубис был в комнате один. Он стоял у столика и читал какую-то бумагу. Будь у Степы немного сил, он бы рискнул – несмотря на цепи – достать палача. Но каждый мускул, каждая клетка тела были заполнены болью. Оставалось одно – думать.
…«Сам», который поручил палаческую работенку этим гадам – вероятно, тот сладкоголосый, что смерть не любит. Гонжабов – что-то скверное, похуже Анубиса. А вот из Иркутска…
– А ты большой человек, Косухин! – хмыкнул Анубис. – Слава Волков за тебя заступается, советует не превращать в марионетку. Чем ты его очаровал?
Выходит, из Иркутска отозвался сам товарищ Венцлав! Вначале Степа не очень понял насчет марионетки, потом сообразил. «Марионетки» – славные бойцы 305-го, страшные мертвые куклы…
– Все, вставай!
Цепи зашевелились и поползли вверх, вздымая вверх непослушное тело. Двигаться было больно, но Косухин все-таки заставил себя приподняться.
– Смотри на меня, сволочь!
По лицу вновь ударил хлыст, стало больно и противно, и Косухин открыл глаза. Лицо в маске было рядом. Степа машинально заметил то, что упустил раньше: губы Анубиса были тоже совершенно черные, а нос какой-то странный – приплюснутый и круглый.
«Во урод! Даже со своими в маске ходит!»
Мысль эта доставила Степе некоторое удовлетворение, и он даже улыбнулся.
– Ха! Вижу, повеселел! – Анубис покачал страшной головой и сплюнул. – Ничего, сейчас с тобой побеседует Гонжабов. Вы с ним споетесь…
В дверь постучали, Анубис крикнул: «Входи», и на пороге показался невысокий, очень молоденький косоглазый в ладно подогнанной темно-синей форме. На голове была фуражка с голубой свастикой, на груди Степа с изумлением заметил орден Боевого Красного Знамени РСФСР.
– Товарищ начальник особого отдела! Класноалмеец Гонжабов по вашему пликазу плибыл!
Звучало смешно, но смеяться не хотелось. От невысокого худого паренька веяло чем-то зловещим – и куда более страшным, чем от верзилы Анубиса.
– Знакомься, Гонжабов: товарищ Косухин, тот самый. Очень несговорчивый… А это товарищ Гонжабов, – Анубис повернулся к Степе. – Знаешь, Косухин, за что у него орден? За Шекар-Гомп! Если б не он, мы бы не взяли монастырь. Между прочим, комсомолец, мечтает вступить в партию. Может, дашь ему рекомендацию, Косухин?
Степа хотел крикнуть, чтобы эта сволочь не смела упоминать Партию, но сдержался. Молчать!..
Между тем Гонжабов, с интересом поглядев на растянутого на цепях Степу, улыбнулся:
– Здравствуй, Косухин, – на этот раз «р» прозвучало на славу. – Как там поживает отец мой Цронцангамбо? Я хочу его увидеть. Я соскучился, Косухин!
«Отец»? – Степа удивился, но быстро вспомнил, что монахи так называют старших.
– Я очень соскучился по отцу моему Цлонцангамбо, – с «р» вышла явная промашка. – Ты ведь знаком с ним, Косухин, плавда? Отец Цлонцангамбо обидел меня, своего сына. Он меня проклял! – «р» зазвучало вновь. – Проклял, Косухин, и назвал «Нарак-цэмпо». Это имя злого духа, Косухин, очень злого! Я не обиделся, я ведь его сын. Но я хочу его видеть… И ты отведешь меня к нему, Косухин, плавда?
Гонжабов по-прежнему улыбался, маленькие глазки внимательно осматривали Степу, словно оценивая. Между тем Анубис потоптался минуту, затем кивнул и направился к двери, буркнув нечто непонятное. Гонжабов даже не оглянулся:
– Он не хочет смотлеть, Косухин. Даже он, пледставляешь? По-моему, он думает, что я в самом деле Нарак-цэмпо.
Болтовня бывшего монаха стала раздражать. Косухин вдруг заметил, что Гонжабов стоит совсем рядом. Упускать случай было грешно. Степа сцепил зубы и что есть силы двинул ногой. Худосочный заморыш упал, откатившись на добрую сажень в сторону, но тут же встал, и улыбка его стала еще шире:
– Ай-яй-яй, Косухин! Нехолосо… Но я не обиделся, не бойся. Сегодня я не могу обижаться – ведь я должен полюбить тебя, Косухин…
Гонжабов еще пару минут походил вокруг Степы, однако более не приближаясь, затем вздохнул:
– Ну, будем начинать, Косухин. Ты уже увидел всякие чудеса – но это не чудеса. Здесь умеют делать из людей варда – это несложно… А вот такое ты видел? Смотри!
Он легко взмахнул рукой. И вдруг Степа почувствовал страшный удар, обрушившийся из пустоты. Он помотал головой, хлебнул воздуха и изумленно раскрыл глаза. Гонжабов смеялся:
– Я мог бы забить тебя до смелти – даже не коснувшись. А вот еще – смотли!
Он вытянул вперед ладонь и резко провел ею по воздуху. Степа почувствовал острую боль – гимнастерка на груди лопнула, из глубокого пореза хлынула кровь.
– Я могу вырвать твое сердце, Косухин!
Все «р» были на своих местах, и Степа успел подумать, что эта нелепая речь – чистое притворство.
Еще взмах – и кровь засочилась из шеи.
– Я мог бы отрезать тебе голову, Косухин! Но я сделаю иначе… Но, может, ты решил заговорить?