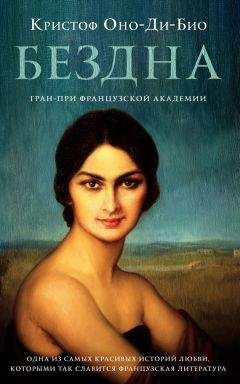Она сказала, что тоже любит путешествия. И тогда я сообщил ей, что покончил со странствиями, решив, что отныне Европа и только она будет моим пристанищем и моей могилой. Ведь тут есть все, о чем только можно мечтать. Она улыбнулась – той Джокондовой улыбкой, по которой никогда, никак нельзя понять, что за ней кроется.
На этом чердаке мне выпали самые волшебные наслаждения в моей мужской жизни. Казалось, тело Пас готово принять и прочувствовать все мыслимые ласки. Оно щедро отдавалось мне, все целиком, без остатка, от кончиков волос до кончиков пальцев ног, и я не знал, почти не знал, что с этим делать. И тогда я обратился в орудие наслаждения. Колдунья Xana – вот кем она была при свете каминного огня, преображавшего ее лицо. Спереди, сзади, сбоку, на спине и на животе… я уже не помню и не хочу вспоминать, как это было. Знаю только одно: я выпивал ее до дна, уста к устам, и проникал в ее жаркую тьму, в ее пылающие тайники, и медлил там, и заглатывал ее, и кусал, и она – она тоже ласкала и терзала, мучила и ублажала мое тело, каждый его квадратный миллиметр. Я был распят ею, исцарапан, избит, натянут как струна, а потом вдруг расслаблялся, точно сломанный паяц, чувствуя, как захлестывает и уносит меня волна наслаждения. Я был ее покорным рабом, я был отдан на милость и растерзание ее любви. Следом за душой заговорило мое тело: я ее любил.
Я открыл глаза. Первое, что мне захотелось сделать, это сдернуть с нее простыню и увидеть наконец крест, вытатуированный на ее коже… но я был один. Натянув джинсы, я сбежал по лестнице. Внизу ее тоже не было. Я отворил дверь, и меня ослепило солнце. Когда мои глаза свыклись с его сверканием, я чуть не упал на колени, так это было прекрасно. «И вдруг сиянье дня усугубилось, как если бы второе солнце нам велением Могущего явилось», – писал Данте о Рае[65]. Неужто этой ночью я умер от наслаждения, а теперь пробудился в стране блаженных теней?!
Каменная крепость возносилась в небосвод, словно брала его приступом. Эта стена напоминала челюсть, отгородившую нас от остального мира. Ее клыки и резцы впивались в голубой окоем, где плавал золотой диск солнца. А передо мной лежал ковер из травы и мха, спускавшийся к гигантскому природному зеркалу. К озеру, в котором повторялись горы и Пас в бикини, готовая нырнуть в воду. «Подожди!» – заорал я и побежал к ней прямо по росе, босиком. Она обернулась:
– Что с тобой?
– Извини, – ответил я, не в силах больше ждать.
Стянув с нее трусики, я высвободил ее ягодицы и – ох, наконец-то! – увидел татуировку. «Сумасшедший!» – воскликнула она, смеясь. Крест Ангелов, альфа и омега. Это был он! Я поцеловал татуировку, сжал руками ее бедра.
– Да, я сумасшедший.
Пас легла рядом со мной. Я стал целовать ее веки, ее запястья. Этот фильм о любви наконец-то можно отмотать к началу, к компьютеру Антона. Спасибо, Антон! Ты был прав, когда сказал, что я должен начать жить заново!
– Нас могут увидеть…
– Ну и пусть, они нам только спасибо скажут.
Я с умилением глядел, как бьется кровь в тонких голубых жилках на ее маленьких ступнях.
– Я люблю тебя, Пас, – прошептал я.
Она ответила:
– Это очень серьезно – то, что ты сказал.
Вскочила на ноги, бросилась в озеро и исчезла под водой.
Я нырнул следом, спеша нагнать эту русалку.
Зажав пальцами нос, я набрал побольше воздуха в легкие и с открытыми глазами ушел в глубину. Солнечные лучи пронзали зеркальную поверхность, лаская донные травы этого горного озера, называвшегося Энол[66]. Энол – твое второе имя, малыш.
Мы провели там много дней, объезжая регион, его горы и побережье – от Бульнеса до Торимбиа, от Гульпиури до Кангас дель Нарсеа[67]. Останавливаясь на привал в амбарах или в стогах сена на только что убранных полях, плавая в реках с зеленой водой и упиваясь сидром в merenderos – ресторанчиках под открытым небом, где люди целыми семьями сидели за длинными столами, отмечая воскресенье.
Мы все пробовали. Мы все делали. Даже хранили молчание в старинных, пустующих до-романских церквях, жемчужинах архитектуры, – Санта-Мария-дель-Наранко или Сан-Сальвадор-де-Мальдедьос, где астурийский король окончил свои дни и был похоронен сыновьями.
Мы разыскивали затерянные пляжи в бухтах с такой фантастической топографией, что казалось, будто их вырубили в скалах великаны. Некоторые из этих пляжей, где мы бродили в отлив босиком, щетинились гранитными остриями, похожими на зубы дракона. Когда в сумерках пена волн смешивалась с туманом, зрелище становилось поистине космическим. Заходя в воду, мы чувствовали, как наших обнаженных тел касаются рыбы. Рыбы, которых она со здоровым аппетитом ела по вечерам в маленьких закусочных, лепившихся по берегам бухт.
Каждое ее движение было полно очарования: то, как она откидывала назад прядь волос, как потягивалась по утрам, выгибая дугой спину, как резко подносила зажигалку к сигарете – напоминая мне женщину с плаката в шахте, словно ей не терпелось взорвать всех, кто угрожал ее свободе.
В конце концов я все же задал ей вопрос о татуировке. Она лежала ничком на песке, в тени утеса, положив голову мне на колени. Начался прилив, и море уже подступило к нам вплотную, облизывая ее обнаженное тело. Я обводил пальцем контуры креста.
– Скажи мне, Пас… эта татуировка… что она означает?
– Вот балда, с чего это ты вдруг? Ты уже целую неделю на нее смотришь.
– Да, я знаю… Это крест Реконкисты.
Повернув голову, она исподлобья взглянула на меня:
– И что?
– Почему ты выбрала именно его?
– А ты бы хотел, чтобы мне изобразили какого-нибудь горбатого длинноносого trasgu? Или дельфина, какими украшают себя сопливые девчонки? Или призыв «Восстань!» готическими буквами? Мой крест выглядит здорово, разве нет?
– Да, но у тебя только одна татуировка – этот крест. Почему? Ты придаешь ему какое-то особое значение?
– Он мне нравится, вот и все, обалдуй… Да что с тобой, у тебя такой серьезный вид.
– А это не связано с политикой? – осторожно спросил я.
– С политикой?
– Ну да… чтобы заявить о своей тяге к независимости… или к фундаментализму…
Она расхохоталась, да так звонко, что мне хватило стыда на целых три следующих дня.
– Значит, если ты видел меня растроганной в церквях, если я ношу крест на попе, я фундамента-листка? Ну и воображение! А может, я из марранов[68]и ношу этот крест, чтобы отличаться от других? Кстати, ты знаешь, кто такие марраны?
Я пристыженно потупился. Она сжалилась надо мной:
– Ладно, если уж хочешь знать, я сделала ее еще в школе. Могу и свести, если тебе угодно.