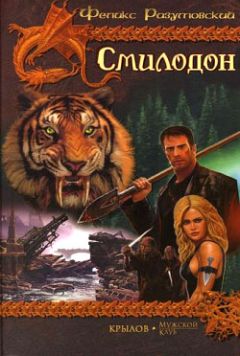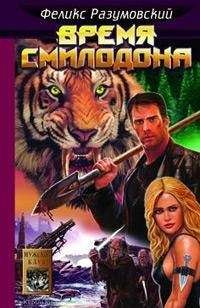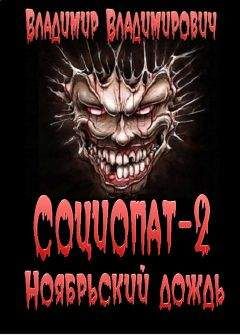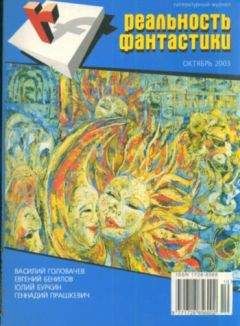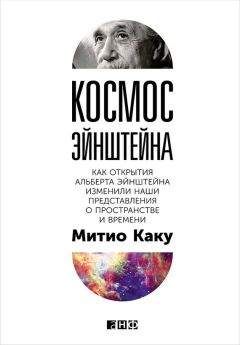– Христос воскресе, Гриша! Счастье-то какое, что встретили твое сиятельство. Неприятности у нас…
– Ба, Павлик! – Заржав не хуже жеребца, Орлов бросился к секунд-майору, по-товарищески обнял его, дважды облобызал, с трудом оторвавшись, поручкался с секунд-ротмистром. – Никак, Федя, восстановили, и прежним чином? Давно вернулся? Как там Кавказ?[287] Стоит? Ну, поздравляю, рад, чертовски рад! И кстати, что это там у вас за беда?
Он на глазах расцвел, помолодел душой, превратился из князя Римского, действительного камергера и генерала от инфантерии в лихого подпоручика Гришку Орлова, любимца и героя – нет, не самодержицы российской, – всей петербургской гвардии. Бесшабашно смелого, до одури отчаянного, всегда готового отдать товарищу последнюю рубаху заодно с нательным крестом.
– Да как обычно. – Секунд-майор Павлик загрустил и благодаря вставшим дыбом бакенбардам очень сделался похожим на барбоса. – Вначале проигрались. Вдрызг. Затем с горя набили морду «рябчикам».[288] Всем подряд, и нашим, и немцам. А потом заявились «хрипуны»,[289] – секунд-майор задышал, набычился, и в голосе его прорезалась удаль, – так что набили морды и им. Как следует. Ну, из мебели, естественно, погромили кое-чего, из посуды… В общем, хозяин требует пятьсот рублей, чтобы дело замять. Полюбовно. А то ведь знаешь, как у нас: потребуют ночью в ордонансгауз, посадят на почетную тройку, и повезет тебя фельдъегерь куда-нибудь к едрене фене. Я, к примеру, на Карагач больше не ходок… Да, забыл сказать, что лучше бы поспешить, а то точно пятьюстами рублями не обойдется. Поручик Ржевский в своем репертуаре – закрылся в ретираде с шампанским, в переговоры не вступает и направляет всех страждущих кого в кусты, кого к чертям, кого еще подальше. А какие сейчас еще кусты – курам на смех, да и только.
– Что? Поручик Ржевский вынужден пить шампанское в сортире? – Орлов вскинул подбородок, помрачнел, и гордые, изрядно подсиненные глаза его сверкнули гневом. – Небось еще теплое и без икры? А ну поехали! – И, крепко ухватив Шванвича за рукав, он с силой потянул его в карету. – Дадим, как это Катька говорит, кое-кому звону.
Даже не спросил, куда ехать…
«Поручик Ржевский?» – удивился Буров и тоже забрался в экипаж – за компанию и жид удавился, а уж боевой-то египетский арап и подавно. Секунд-майор Павлик с почти что ротмистром Федей обрадованно уселись следом, усатый подпоручик, устроившийся на козлах, с готовностью взмахнул кнутом, лошади, горестно всхрапнув, понуро взяли с места. Поехали. Путь лежал, как вскоре выяснилось, в «Аустерию Вассермана», небольшой загородный кабачок, расположенный по Нарвскому тракту. Ехать было не так уж и далеко, лошади бежали споро, однако же почти-майор Павлик успел поведать много интересного: и про веселую девицу Дюбуа, познавшую в свои семнадцать лет шестнадцать тысяч сто сорок восемь мужчин, и про бравого козла, который только чудом не забодал сенатора Брызгалова,[290] и про испанскую певичку N, у которой молодежь-кавалергарды ночью в загородном доме сняли ставни и с восторгом любовались туалетом примадонны. Под занятный разговорец, под нащелкивание кнута долетели как на крыльях.
У аустерии их ждали, судя по всему, с нетерпением.
– О, майн готт! О, майн либер готт! – кинулся к карете, словно наскипидаренный, упитанный пожилой шваб, и бледное заплаканное лицо его озарилось счастьем. – О, мои бесподобные лошадки! О, моя восхитительная карета работы несравненного мастера Иоахима![291]
– Рессоры дерьмо. Обода тяжелы. Клячи скверно кормлены, – с ходу возразил усатый подпоручик, ловко спрыгнул с козел и, подождав, пока вылезут товарищи, бросил швабу мокрый от пены кнут. – Давай катись, пока самого не взнуздали.
Вот так, коротко и по-русски. Главное – доходчиво.[292]
Граф Орлов был также крайне немногословен.
– Знаешь, кто я? – спросил он Вассермана, тощего, вертлявого иудея, искусно маскирующегося под немца, немного помолчал и указал на Бурова. – А знаешь, кто он? Что, не знаешь? Твое счастье.
Стоимость консенсуса, оцененного в пять сотен, сразу же упала вдвое, инцидент, к вящему удовольствию обеих сторон, был благополучно исчерпан, и поручик Ржевский вышел на свободу – трудно, пошатываясь, бледный, словно схимник из пещеры, переживший катарсис. Впрочем, шатало его от «таможенного квасу»,[293] выпитого в антисанитарных условиях в количестве полудюжины. А на вид поручик Ржевский был прямо как из анекдота – бесшабашно удалой и отчаянно разудалый, руководствующийся в жизни немудреными истинами: «последняя копейка ребром» и «двум смертям не бывать, одной не миновать». Сразу чувствовалось – циник, хулиган, отчаянный ругатель и неисправимый бабник. Этакий Барков, не в поэзии – в деле. В общем, обормот в эполетах еще тот.
– Бонжур, друзья мои, – с пафосом воскликнул он, звучно высморкался и кинулся к спасителям, при этом наступив вроде бы случайно бедному еврею Вассерману на ногу. – Только, миль пардон, руки не подаю, весь в дерьме. Насквозь пропах, пропитался миазмами, проникся мыслью о том, что, да, есть в этом мире масса прекрасного, но, увы, она каловая. И Бог сотворил людей не из глины, а из… Орлов, друг мой, не скаль свои сиятельные зубы. Увы, увы, все это так. Изволь вот каламбур: хоть телом ты и бел, а калом все одно бур…
Вот ведь сукин сын. А вообще-то из-за врожденной скромности Ржевский несколько наговаривал на себя – несло от него не дерьмом, а вдовушкой Клико…
– Господа, ну право же, господа, не довольно ли нам о фекалиях? – Шванвич посмотрел на порожнюю бутылку, кою Ржевский все еще держал в руке, с завистью проглотил слюну и тяжело вздохнул. – Давайте о бабах, что ли… И потом, не пора ли нам, господа, выпить и как следует закусить?
– Только не здесь, господа, не здесь, – вклинился в беседу Вассерман, и хищное морщинистое лицо его выразило тревогу. – Заведение, знаете ли, закрыто.
– Хорошо, мы придем завтра, – твердо пообещал ему Орлов, искоса глянул зверем и тут же резко сменил гнев на милость. – Ну что, господа, тогда прошу ко мне. Отобедаем в тесном кругу, по-простому, по-товарищески…
Только по-простому и в тесном кругу не получилось. Трапезничать пришлось на римский манер, в триклинии, возлежа на великолепных, в покрывалах пурпурного цвета ложах. Правда, за неимением тог и туник – в подштанниках. Все вокруг завораживало и вызывало восхищение: полы были устланы драгоценными коврами, стены изукрашены фресками с фривольными изображениями нимф, в углах дымились аравийские благовонные курения, столы гнулись под тяжестью бутылей, посуды и яств. Вначале подали закуску: паюсную икру, фаршированную редиску, маринованные персики, ананасы в винном уксусе и щеки астраханских селедок.[294] Затем в меню значились: лосиные губы, разварные лапы медведей, жареная рысь,[295] печеные кукушки, налимьи молоки и свежая печень палтуса. Третьей переменой шли: устрицы, гранаты, дичь, начиненная орехами, фиговые ягоды и разнообразнейшие салаты. А запивать всю эту благодать полагалось реками шампанского, водопадами бургундского, океанами токайского и ведрами отечественной, благословенной, чистейшей, как слеза. И поскольку пировали хоть и в римском стиле, но все же сугубо по-русски, то и руки вытирали не о головы мальчиков, а о блонды хохочущих граций. Те, в одном лишь дезабилье, расширяли тесный круг своим обществом…