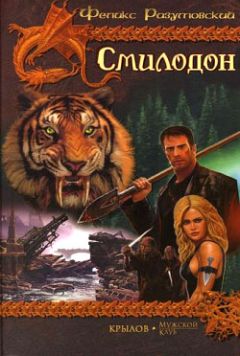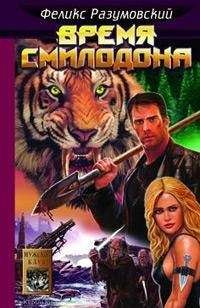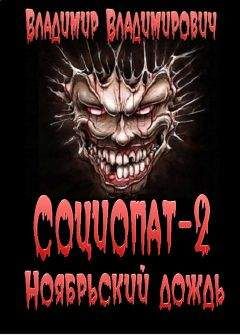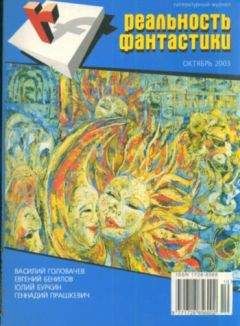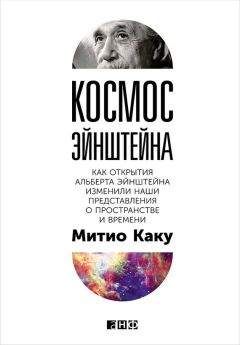Поначалу все было чинно, мило и выдержано в духе эпикурейства: кликнули Ржевского на царство,[296] надели на головы венки,[297] и понеслось. С пафосом произносили тосты, славили прекрасных дам, в охотку пили, со вкусом ели, затягивали хором, правда, нестройно:
Две гитары за стеной зазвенели, заныли, —
О, мотив любимый мой, старый друг мой, ты ли?
Это ты: я узнаю ход твой в ре-миноре
И мелодию твою в частом переборе.
Блевать выходили элегантно, не спеша, с достоинством и извинениями.[298] Всем заправляли чревоугодный Бахус на пару с чреслолюбивым Эросом. Однако Бахус порядком окосел и рухнул покемарить под стол, а Эрос, воодушевившись, натянул потуже лук и взял бразды правления в свои руки. Пир быстро превратился в гулянку с бабами, а та – в бардачное действо и блудное непотребство. В оргию, одним словом, если по-эпикурейски. Потом пошли всей компанией в баню и ели там паюсную икру, дабы возбудить жажду, ну а затем, изрядно возбудив оную, снова пили, пели и предавались греху. Уже не ограничиваясь размерами триклиния – на балконе, на террасе, в галерее, в оранжерее. Грации все хохотали, Шванвич ревел как бык, Ржевский пропагандировал позицию бобра – зело галантную, пикантную и приятную для любострастия.[299] В общем, куда там фавнам с их нимфами…
В течение всей этой смачной вакханалии Буров, сам не чуждый ничего человеческого, словно бы разделился сознанием надвое. «Где же твоя бдительность, распросукин ты сын? – вопрошала одна половина, оценивающая и рассудительная. – Ведь возьмут тебя тепленьким, да и выпотрошат мозги». – «Да и нехай, не жалко, – отвечала другая половина, бесшабашная и разгульная. – Хрена ли собачьего они в тех мозгах найдут? Там все как в тумане… Там-там-тарам-там-тарам… И память укрыта такими большими снегами… Пусть приходят, посмотрим еще, кто кому мозги вышибет. Насрать, жизнь копейка, судьба индейка…»
Гуляли с огоньком и умеючи, всю ночь. Утром же пришел Морфей, с ходу попросил Эроса, без проблем турнул Бахуса и мощно распростер свои крылья: грации подались отдыхать в палаты, Орлов отправился к себе, гвардейцы – в комнаты гостей, Ржевский прикорнул прямо на клавесине. А вот Бурову что-то не спалось. Сытый, пьяный, утешенный всем человеческим, он долго мылся в холодной воде, потом жевал капусту, вливал в себя рассол и, чувствуя наконец, что потихоньку трезвеет, с язвительной ухмылочкой придвинулся к зеркалу. М-да… Ну и рожа. Даром что черный, а сразу видно – зеленая. И когда же, спрашивается, этот чертов отбеливатель начнет действовать? А впрочем, если верить Калиостро, то не скоро – уж больно выпито было сильно. Нет, нет, право же, пьянству бой. Проклятье тебе, зеленый змий.
То, насколько сильно было выпито, Буров в полной мере понял позже, когда то ли на поздний завтрак, то ли на ранний обед начал собираться народ: бодрый и выспавшийся Орлов, мрачный, словно туча, Шванвич, рвущиеся снова в бой гвардейцы и Ржевский в не первой свежести, одетых задом наперед подштанниках. Все держались с Буровым крайне уважительно, обращались не иначе как Василь Гаврилыч, а секунд-майор, подпоручик и почти ротмистр при разговоре с ним выпрямляли спину. Как же – подполковник гвардии,[300] орденоносец. Герой, излазивший все джунгли и болота Африки. О-хо-хо-хо-хо…
Ладно, плеснули гданской на старые-то дрожжи, заели кто икоркой, кто заливным, кто балычком, и Шванвич, надеясь поправить настроение, угрюмо повернулся к Орлову:
– Ну что, поедем к Вассерману-то?
И дабы внести совершенную ясность, зачем нужно ехать к Вассерману, он плотоядно хмыкнул, нехорошо оскалился и погрозил огромным, напоминающим кувалду кулаком.
– Конечно, поедем. Дадим звону. И в ухо, и в морду, и в ливер, – обрадовался Орлов, мощно, под стерляжий присол, пропустил чарку гданской и внезапно, словно вспомнив что-то, помрачнел, перестал жевать. – Постой, постой. А какой сегодня день?
– Да суббота. Христос уже неделю как того… – Ржевский показал на потолок, тоже принял, зажевал икрой и смачно почесал в подштанниках. – А что, не пора ли нам впендюрить, господа? Дамы наши никак еще спят? А потом можно и Вассерману. По самые по волосатые…
И он сделал настолько похабный жест, что Шванвич подавился балыком.
– Нет уж, господа, Вассерману впендюривайте без меня. Вернее, без нас. – Орлов еще приложился к гданской, яростно отдулся и посмотрел на Бурова. – Василь Гаврилыч, Маргадон ты наш, а я ведь твою персону брал не для себя – для сурпризу. Хочу тобой побаловать кавалера одного, в день его ангела. А день того ангела как раз сегодня. Так что скоро нам с тобой расставаться, а жаль. И что это я в тебя такой влюбленный…
Буров был на все согласный, вежливо кивал, пил себе лимонадус, ухмыляясь тонко и язвительно, – да, скоро будет кое-кому сюрпризец, главное только, чтоб отбеливатель не подвел…
А пасхальные забавы между тем шли своим чередом – вмазали еще, дождались дам, впендюрили, но не сильно, так, из уважения к слабому полу, вдарили еще по гданской, закусили поросятиной, напились чаю, и компания разом нарушилась: дамы, похохатывая, подались в парк любоваться красотами, Шванвич со товарищи отправился по душу Вассермана, а Буров с князем Римским стали собираться – не шутка, день ангела. Да еще с балом-маскарадом, огненной потехой и галантнейшим ужином. Собственно, Бурову что – кольчужку под кафтанец, котомочку на одно плечо, волыну на другое, и все, готов к труду и обороне. А вот их сиятельство граф Орлов… Тот решил явить себя во всем блеске, в прямом и переносном смысле этого слова: бархатный французский камзол с рубиновыми пуговицами, звезды, как и кресты на шее, из крупных солитеров, огромные, размером со сковородку, жемчужные эполеты, туфли с красными каблуками и пряжками а-ля Сен-Жермен, то есть алмазными, пуд, а может, и поболе золотого искусного шитья. А бесчисленные перстни, драгоценные брелоки, пышная, баснословно дорогая пена кружев на манжетах и груди![301] Да, чудо как хорош был Григорий Григорьевич и здорово напоминал могучий дуб, наряженный на Рождество вместо ели. Экипаж его, что поджидал у входа, также не подкачал и поражал изысканностью и великолепием: снаружи карета переливалась стразами, играла золотом и была запряжена в восемь линий, на запятках хмурились вооруженные гусары, рослый кучер представлял собой совершенного черкесца, а форейторы «на унос» являли точную копию китайских мандаринов. И это не говоря о зеркальных стеклах, пунцовой сбруе с серебряным набором и о сияющих кокардах и вычурных бантах на головах лошадей. Внутри карета была обита бархатом, устлана коврами и катилась с плавностью «шестисотого» «мерса». Только вот хозяин ее недолго тешился прелестями езды – голова Орлова свесилась на грудь, тело безвольно замерло, рот открылся. Груз всего выпитого, съеденного и оттраханного оказался чрезмерным даже для него. Так что в столицу империи Буров ехал, как философ, в компании мыслей – под скрип рессор, храп генерал-аншефа и мерное позвякивание колокольца верстомера. Чувствовал он себя не ахти, не лучшим образом, жутко хотелось пить, раскалывалась голова, тело омерзительно зудело, словно не мытое вечность. Уж не поделились ли с ним грации какими-нибудь въедливыми насекомыми, из тех, что в блошиную ловушку не поймаешь? Да нет, вроде не похоже – Орлов-то вон почивает без проблем, храпит блаженно и в ус не дует. Никто, видать, не пляшет у него лихой фокстрот в промежности… Нет, верно, не лобковые вши это, аллергия, результат излишеств, неумеренности и неправильного питания. Все, с завтрашнего дня надо начинать беречь здоровье. В частности, печень и почки. Никаких копченостей, солений, маринадов. Ни капли алкоголя. Побольше фруктов. И по женскому полу ходить поосторожнее, избегать случайных непроверенных щелей…