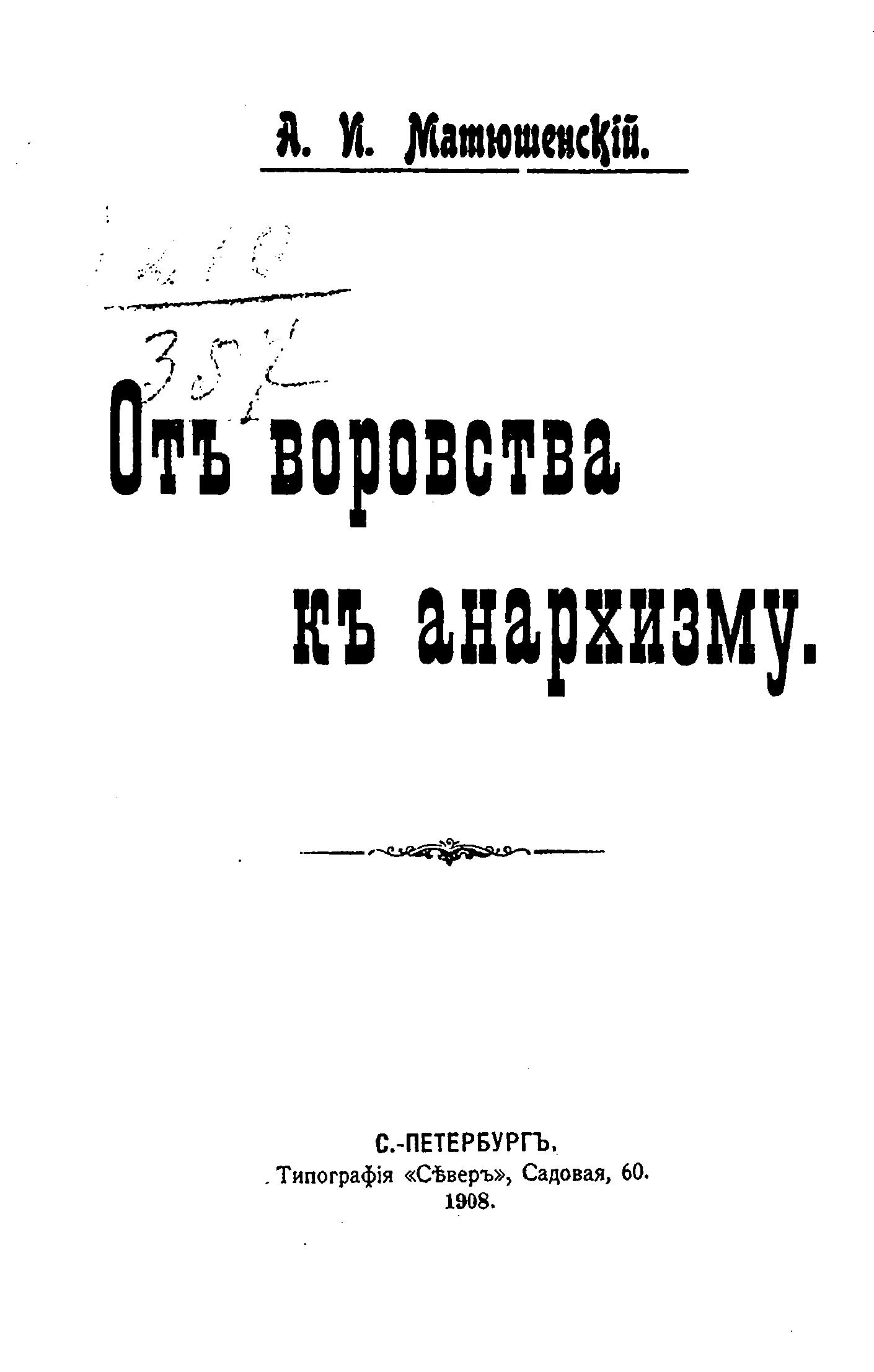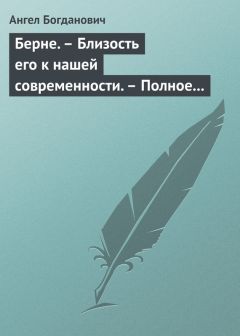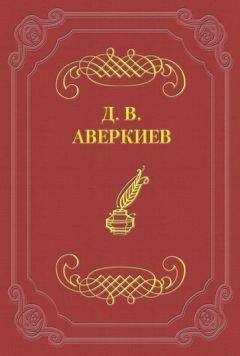утопизма.
Но по настроенію отдѣльныхъ анархистовъ и даже цѣлыхъ группъ этотъ утопизмъ отражается въ значительной степени. Мечта объ экспропріаціи часто главенствуетъ и не покидаетъ иныя головы ни днемъ, ни ночью.
Іюнь 1907 года. Населеніе арбатской полицейской тюрьмы въ крайней степени взволнованности.
— Привезли экспропріаторовъ!
— Привели, а не привезли!
— Говорю: привезли, — такъ, значитъ, привезли.
— Своими глазами видѣлъ: привели! Пятеро арестованныхъ и девять человѣкъ конвойныхъ, со штыками!
— Выдумывай! привезли въ санитарной каретѣ, раненыхъ — и прямо въ пріемный покой!
Такими фразами перебрасывались заключенные черезъ окна 14 іюня.
А въ результатѣ—нетерпѣливое чисто тюремное ожиданіе:
— Привезли или привели? То есть, доставили живыхъ и здоровыхъ или раненыхъ, а, можетъ быть, и умирающихъ?
Но черезъ полчаса оказалось, что и привезли и привели. Одного привезли, а остальныхъ привели подъ усиленнымъ конвоемъ.
Это была группа, захваченная въ тотъ же день на Александровскомъ бульварѣ.
Они сидѣли на двухъ сосѣднихъ скамейкахъ. Отрядъ полицейскихъ окружилъ ихъ и началъ по нимъ стрѣльбу. Такъ, по крайней мѣрѣ, передавали намъ они сами. Одинъ изъ группы, именно бѣглый матросъ Кузнечиковъ началъ отстрѣливаться изъ браунинга, ранилъ околодочнаго и прохожаго кадета, бросившагося задержать его, и убилъ дворника и дѣвушку изъ публики, послѣднюю случайно, а потомъ выстрѣлилъ себѣ въ грудь. Пуля прошла на вылетъ черезъ легкое.
— Должно быть къ вечеру умретъ! — говорили его товарищи, когда ихъ привели изъ конторы и водворили въ камерѣ № 4-й, по одному съ нами корридору.
Но онъ не умеръ къ вечеру, живъ былъ и на другой и на третій день. А на восьмой или на девятый день мы уже гуляли вмѣстѣ съ нимъ по полицейскому двору.
Это былъ приземистый, мускулистый, чрезвычайно подвижный человѣкъ, здоровый, крѣпкій, энергичный.
Никто не сказалъ бы, что всего 8–9 дней назадъ нуля пронзила его легкое.
Онъ былъ совершенно здоровъ.
— Зачѣмъ вы позволили выписать себя? — удивлялись окружавшіе его заключенные.
— Я самъ просился.
— Какъ — самъ? Зачѣмъ? Тамъ воздуху больше, а у васъ легкое прострѣлено?
— А на какой оно мнѣ чертъ, легкое то?
Всѣ опустили головы. Молчаніе.
Правда: зачѣмъ ему здоровое легкое, когда его ждетъ «вѣрная» висѣлица?
Онъ — покойникъ въ самомъ недалекомъ будущемъ 4). Самое большее, ему осталось жить два-три мѣсяца.
— Тамъ (въ пріемномъ покоѣ) полицейскій только торчитъ передъ тобой и днемъ и ночью, а тутъ все же люди! — обвелъ онъ рукой вокругъ себя.
Скорѣе къ людямъ!
Онъ любилъ людей. Или, вѣрнѣе, онъ не могъ жить безъ людей, не среди толпы. Его живая, энергичная натура требовала постояннаго общенія, непрерывнаго обмѣна мыслями.
Это былъ агитаторъ по натурѣ, отъ рожденія и до смерти и… утопистъ. Его мечты не знали предѣла; а его рѣшимость тотчасъ готова была слѣдовать за его мечтами.
Его мысли, конечно, были сосредоточены на побѣгѣ. Иначе и не могло быть въ его положеніи.
И онъ каждый день изобрѣталъ новые планы побѣга, — планы всегда безумно смѣлые, но всегда и не сбыточные.
И замѣчательная особенность: онъ чрезвычайно легко отказывался отъ своихъ плановъ. Достаточно было указать на какую нибудь деталь, устраняющую возможность успѣха, какъ онъ уже спѣшилъ согласиться.
— Да, правда! Это не подходитъ.
Повидимому, онъ и самъ не придавалъ серьезнаго значенія своимъ планамъ, а просто фантазировалъ, что бы отвлечь свое вниманіе' отъ предстоящей ему смерти.
— Почему, вы, Кузнечиковъ, сдѣлались экспропріаторомъ? — какъ то спросилъ я его, когда онъ. пришелъ къ намъ въ камеру «за книжкой».
Онъ сначала не нашелся что отвѣтить на мой вопросъ, какъ то даже, какъ будто, растерялся, а потомъ весь оживился, обвелъ камеру глазами и проговорилъ, запинаясь.
— А вотъ… что бы… этого всего не было.
— Тюремъ? — переспросилъ я.
— Не однихъ тюремъ, а всего этого…
— Строя?
Онъ не понялъ моего вопроса. Я объяснилъ.
— Вотъ, вотъ! — обрадовался онъ.
— Но какимъ образомъ, вы думали достигнуть этого помощью экспропріацій? Вы къ какой нибудь партіи принадлежите?
Онъ замялся.
— Не знаю.
— Не знаете, значитъ не принадлежите.
Одинъ… тутъ… знакомый говорилъ мнѣ, что я анархистъ.
Я улыбнулся.
— А онъ кто, этотъ знакомый?
— Онъ по воровской части. Ну, только онъ особенный воръ.
— Чѣмъ же онъ особенный?
— А онъ говоритъ: воры — это исконные революціонеры, потому — ни правительства, ни собственности не признаютъ. И ежели умный человѣкъ, то онъ не долженъ стыдиться своего (воровского) ремесла, а долженъ гордиться имъ… онъ не для себя только воруетъ или, тамъ, экспропріируетъ, а для всѣхъ…
— Какъ это для всѣхъ?
— А такъ, это, будто, видимость только, что для себя. Вродѣ, вотъ, какъ въ деревнѣ: мужикъ волка или медвѣдя убилъ, шкуру продалъ, и деньги себѣ въ карманъ положилъ. По видимости оно выходитъ, какъ будто, для себя убилъ, а оно, между прочимъ, всю деревню отъ волка или медвѣдя ослобонилъ. Такъ, будто, и тутъ тоже самое. Воруетъ человѣкъ или экспропріируетъ, деньги себѣ беретъ, а оно выходитъ, что капиталъ, будто, этимъ изничтожаетъ и всѣхъ людей освобождаетъ изъ… изъ… какъ его?
— Изъ подъ гнета капитализма что ли?
— Да… вотъ отъ всего этого… тюремъ, чтобы не было, чтобы не одни богатые, а чтобы всѣмъ хорошо было.
— А вы какъ думаете: можетъ это быть?
— Можетъ, ежели, значитъ, всѣ…
— Что всѣ?
— Экспропріировать будутъ и…
— И воровать?
— Д — да… всячески, значитъ изничтожать капиталъ.
— А когда изничтожатъ?
— Тогда, значитъ, на волѣ всякій своимъ дѣломъ займется… и будутъ жить хорошо, по божески…
И онъ съ облегченіемъ вздохнулъ, радуясь, очевидно, завершенію программы освободительнаго изничтоженія капитала.
Мнѣ признаться очень хотѣлось оставить его въ этомъ пріятномъ заблужденіи.
— Вѣдь онъ жизнью платится за эту мечту! — промелькнуло у меня въ умѣ.
Но привычка доводить разговоръ до логическаго конца взяла верхъ надъ человѣколюбіемъ, и я спросилъ:
— А какимъ своимъ дѣломъ каждый займется?
•— Каждый своимъ, — спокойно отвѣтилъ онъ, — къ примѣру, крестьянинъ будетъ крестьянствовать, плотникъ, тамъ, избы строитъ…
— Но, вѣдь, всѣ будутъ экспропріаторами и ворами, и никто никакого дѣла не будетъ знать.
Экспропріаторами это только пока… Вродѣ вотъ какъ я: былъ матросомъ, потомъ экспропріаторомъ, — а все же я своего коренного то дѣла, работы то не забылъ… когда все кончится, я за него и возьмусь опять… землю значитъ, пахать…
— Такъ, значитъ, вы думаете, что все это окончится очень скоро?
— Ну, не такъ ужъ скоро… А такъ годковъ въ пять порѣшить можно, — увѣренно заявилъ онъ. — Это, какъ народъ… Ежели всѣ сразу, то скоро. Вотъ теперь уже за это дѣло сколько людей берутся! И гимназисты, и студенты, и мастеровой народъ, и такъ, изъ крестьянъ которые…
— Вы