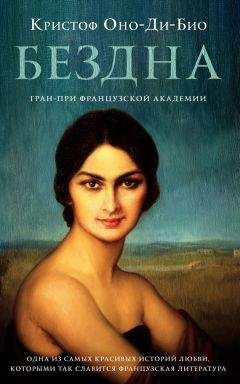И вот однажды Пас назначила мне встречу поздно вечером, возле пирамиды. Внутри нас ждал директор музея. Я был счастлив, как ребенок: сбывалась моя детская мечта! Я крепко обнял Пас. Не знаю, как она добилась этого «сезама». На мой вопрос она ответила только загадочной улыбкой.
Мой дорогой Эктор, я желаю тебе встретить когда-нибудь такую же Пас, которая подарит тебе такой же визит. Или, вернее, такое же странствие. Сначала будет ночь, украшенная звездами. Потом твои одинокие шаги по скрипучему паркету или по звонким мраморным плитам. Впрочем, одиночество – это не главное в такой фантастической ситуации; главное – отсутствие шума. Никто из нас не осмеливался говорить. Величественную тишину музея нарушало лишь цоканье каблучков Пас. А темноту разрезали только лучи наших фонариков.
На самом верху монументальной лестницы высилась на носу своего каменного корабля Ника Самофракийская, все такая же безголовая – точь-в-точь отставная голливудская звезда в нижнем белье, вопящая, что у нее украли драгоценности. В кружочках света наших фонариков греческие вазы демонстрировали нам свои битвы в оранжево-черных тонах: гиганты в звериных шкурах погибали от молний Зевса; Эос оплакивала смерть своего сына Мемнона, павшего от руки Ахилла; мать сжимала в объятиях тело сына, бородатого, как Христос, – это уже была pieta; Орест воздымал кинжал, которым убил мать… Целая череда смертоубийств в витринах.
Мы шли по залам, трепеща от волнения. Королева Пальмиры с ее свирепым взглядом и плотно сжатыми губами, вырванная из своей могилы, готовила месть убийцам, теребя свой роскошный, покрытый драгоценностями тюрбан и, похоже, мысленно прикидывая, нельзя ли ей опереться на крылатых быков Навуходоносора, стоящих в двух шагах от нее. Эта ночная тьма, эти статуи вокруг и завораживали, и пугали. Они были неживые… но до жути реальные. Сердце у меня билось медленно, как под гипнозом. Повторяю тебе: никто из нас не вымолвил ни слова. Вплоть до того момента, когда высоченная, под два метра, фигура директора внезапно сложилась пополам. В стене дворца мы увидели узкий проем. Он проскользнул в него и позвал: «Идите за мной!» Мы вышли на лестницу всего в несколько ступенек, ведущую к другой двери, которую он и открыл. Теперь мы стояли на балконе с балюстрадой. Директор нагнулся и знаком велел нам сделать то же самое, направив свет вниз. Пас едва удержалась от вскрика. Я нагнулся пониже и прямо под собой увидел Ее.
Она лежала на правом боку, почти на животе, на простеганном ромбами матрасе, такая прекрасная, такая живая, что вас неодолимо тянуло присоединиться к ней в этом сне, сразившем ее после любовных объятий. Или до них?
– Идемте, – сказал директор.
Мы вернулись обратно и вошли в зал, где можно было любоваться этой женщиной в окружении ее мраморных соседей.
Узкий луч моего фонаря медленно обводил лежащую фигуру. Тщательно уложенные волосы, капризно надутые губы, подбородок, упершийся в сгиб локтя, красивый изгиб позвоночника, подчеркнуто крутые выпуклости ягодиц, плавная линия бедер, тесно сжатые ляжки. Но интереснее всего в этой фигуре были ноги. Казалось, женщина, взволнованная каким-то захватывающим сновидением, бессознательно пошевелила левой ногой, приподняв ее так, что ступня повисла в воздухе. Другая нога, плотно прижатая к постели, выглядела напряженной, словно ее обладательница испытывала острое наслаждение, от которого вот-вот должно было содрогнуться все ее тело. Луч фонарика Пас – она стояла с другой стороны – тоже обводил лежащую фигуру; иногда наши лучи скрещивались и у меня возникало чувство, будто мы с ней делим это погруженное в сон тело, как два вампира. Тем более что вокруг стояла мертвая тишина, а наш проводник выключил свой фонарь. Я едва различал в темноте его высокий силуэт. Молчание становилось прямо-таки осязаемым, как вдруг Пас нарушила его ругательством. И я услышал ее шепот: «Да она же… он же… у него…»
Я обошел постамент. С этой стороны можно было видеть затылок молодой женщины с несколькими прядями, выбившимися из прически, одну круглую, соблазнительную грудь, слегка приплюснутую матрасом, мягко очерченный живот, а под ним… напряженный пенис. Мы оба остолбенели.
И тут раздался голос хозяина этих мест, декламирующий строки стихотворения – столь же недвусмысленного, сколь и нарочито манерного:
В музее древнего познанья
Лежит над мраморной скамьей
Загадочное изваянье
С тревожащею красотой.
То нежный юноша? Иль дева?
Богиня иль, быть может, бог?
Любовь, страшась Господня гнева,
Дрожит, удерживая вздох[138].
Значит, вот он – Гермафродит, знаменитый «Спящий Гермафродит», которого Бернини изваял из античного мрамора и который, в зависимости от точки обзора, демонстрирует признаки каждого из двух своих полов!
– Расскажите мне его историю, – попросила твоя мать, которую я любил еще и за это: она считала живым все, что видела.
Все, и мужчины и женщины, имели свою историю, свою жизненную драму, свое счастье, определявшие смысл их жизни. И директор поведал ей легенду о Гермафродите. До того как это слово стало зоологическим термином, описывающим размножение у некоторых животных, таких как улитка или рыба-клоун (для людей-гермафродитов воспроизводство невозможно), оно было именем собственным. Его носил сын Гермеса и Афродиты. От матери – богини красоты – юноша унаследовал эту красоту, продолжал наш хозяин, он жил в лесах, и все нимфы безумно влюблялись в него, видя, как он прогуливается обнаженным по благоуханным рощам или плодородным долинам, как он спит в тени лесных гротов или омывает свое божественно прекрасное тело в водах рек. Одна из них, Салмакида, совсем потеряв голову от любви, решила перейти к действию. Она была наядой, речным божеством, но темперамент у нее был огненный. И однажды знойным днем она призналась юноше в своей страсти. И предложила – впрочем, в самых учтивых выражениях – взять ее в жены, а если он уже женат, то она удовлетворится и мимолетным наслаждением.
– Вполне прагматичная девушка, – заметила Пас.
– Да, греческий античный мир был именно таков. Но не Гермафродит. Тот покраснел и объявил, что если она будет настаивать, то он сейчас же уйдет.
– Мальчишка…
– Оно так, но она была наядой. И когда он плавал в прохладной реке, она набросилась на него и, крепко обхватив его восхитительное тело, попыталась насладиться им. «Как морской анемон захватывает в свои щупальца добычу, – писал Овидий в своих „Метаморфозах“. – С той лишь разницей, что юноша воспротивился ей».
В наступившей тишине я услышал, как Пас тихонько смеется. Директор продолжал: