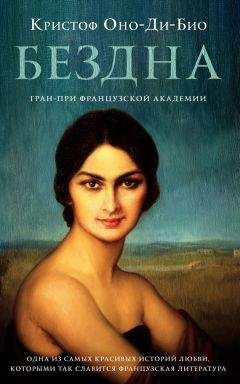– Мальчишка…
– Оно так, но она была наядой. И когда он плавал в прохладной реке, она набросилась на него и, крепко обхватив его восхитительное тело, попыталась насладиться им. «Как морской анемон захватывает в свои щупальца добычу, – писал Овидий в своих „Метаморфозах“. – С той лишь разницей, что юноша воспротивился ей».
В наступившей тишине я услышал, как Пас тихонько смеется. Директор продолжал:
– И тогда она взмолилась, прося богов, чтобы они пришли к ней на помощь и навеки соединили их. И боги, большие любители наблюдать за плотскими утехами, решили, что недостойно было бы отказать девушке, и исполнили ее просьбу.
– То есть Гермафродит – это пара? – спросила Пас.
– «Единственная счастливая пара, какую я знаю» – так сказала одна старая английская аристократка восемнадцатого века, впервые увидев эту статую.
– Прелестно! – заметил я.
Я не видел Пас в темноте, но слышал ее. Если оценивать ее восхищение по десятибалльной шкале, то сейчас оно было как минимум на восьмой. Упиваясь этим музейным приключением и типично французской любезностью нашего гида, она засыпала его вопросами, нарушая гробовую тишину безлюдных залов. А он, польщенный ее интересом, старался вовсю. Его тоже пленило обаяние Пас, властно покорявшее сердца всех, кто ее знал.
– Да, коллекция Боргезе… Это римская копия греческой статуи… Правда, кардинал Шипионе Боргезе потребовал уложить это сомнительное создание на постель соответствующего размера…
– Значит, матраса раньше не было?
– Нет. Его добавил Бернини пятнадцать веков спустя. И взгляните, как находчиво это сделано: прямые швы якобы кожаного простеганного матраса подчеркивают плавные линии тела. Отсюда ультрасовременное впечатление. Мне пришлось окружить скульптуру барьером – посетители норовили пощупать матрас, настолько реалистично он выглядит.
Пора было уходить. Синдром Золушки: нам не полагалось находиться здесь, и мы, может быть, крупно рисковали. Так, словно повернули вспять ход времени. Опасно расхаживать среди мертвых, вернее, среди каменных подобий живых, которые знали множество живых, ставших ныне мертвыми. Сколько глаз созерцали, как сейчас наши, «Спящего Гермафродита»? И сколько из них давно уже потухло? Черные пустые глазницы в глубине склепов, радужные воспоминания, обращенные в прах… Вдали скорбно прозвонил колокол. Воздух сгустился, звезды погасли. «Пойдемте», – сказал директор.
У меня кружилась голова при взгляде на Пас, эту живую статую, царапавшую древние плиты современными острыми каблучками, скользившую между этими мужчинами и женщинами, заключенными в мраморную оболочку, хотя чудилось, будто в их телах еще трепещет, если приглядеться, скрытая, мятежная жизнь. Кентавры, херувимы, богини с луками в руках, в сопровождении ланей или юных подруг, готовые к омовению в источнике, – все они в один миг окаменели по воле капризных богов. В их жилах внезапно застыла кровь, их благородные сердца внезапно остановились. Мне стало страшно за мою Пас, такую темноволосую среди всей этой белизны, такую подвижную среди этой безнадежной застылости, но такую смертную среди этой вечности…
Я вспомнил о кресте на ее ягодице. Крест Ангелов… сейчас она была рядом с ними, на седьмом небе. Я еще ни разу не видел ее такой счастливой. Она была до того растрогана, что, прощаясь, поцеловала директора в щеку со словами: «Мне никогда не доводилось смотреть на статуи вот так, как сегодня. Спасибо вам, спасибо, спасибо! Теперь я понимаю, отчего вас зовут Мистер Лувр!»
«Сюда! Сюда!» – со смехом твердила она той ночью, бегая за мной по квартире, от гостиной до кухни. И даже в постели, когда я уже засыпал, борясь с осаждавшими меня образами «Спящего Гермафродита», она выдыхала мне в шею, в уши, в затылок: «Сюда! Сюда!» А мне не хватало смелости – хотя искушение было очень велико – спросить у нее: «Значит, ты уже не задыхаешься от европейского искусства?»
И я решил, что моя фантазия победила, наголову разбила ее увлечение. Решил, что я вернул ее на путь истинный. Что с акулами покончено, и мы больше никогда не будем поминать эту историю с акульим усыновлением.
На Пас нашло вдохновение. Она была словно в экстазе, а у древних это слово означало, что «человека поцеловал Бог». Моя астурийка вознеслась прямиком на Олимп.
Она забросила свои пляжи и занялась музеями.
Теперь она снимала в Каподимонте, в музее Королевы Софии, в галерее Боргезе, в Дельфах[139]. И в Орсэ[140], где прямо-таки поселилась в предвкушении Лувра – «пока еще слишком крупного зверя для меня», как она говорила. «Но если дело пойдет, то доберусь и до Лувра!»
И она с головой ушла в свою новую работу. Нашла тему, смелую по тем временам, когда все ориентиры летели к черту, когда казалось, что люди живут только текущим моментом, – столкновение зрителей с шедеврами искусства. Она и здесь руководствовалась принципом «повторять, но не повторяться». Этот принцип сформулировал Йозеф Куделка[141], потрясающий фотограф, который долгие годы снимал одних цыган. Однажды вечером я встретил их обоих возле агентства «Magnum», в районе площади Клиши. Когда Куделка не странствовал, чтобы фотографировать, он здесь ночевал. Прямо на улице, на двух сдвинутых скамейках, как настоящий цыган, – и это в семьдесят пять лет! Они пили светлое пиво, и я затрудняюсь сказать, кто из них троих – пиво, Пас или Йозеф – был свежее остальных. Пас – в жемчужно-сером платьице на узких бретельках, с мокрыми волосами, собранными в пучок: она только что плавала в бассейне. Он – в грубой темно-зеленой рубахе, чем-то напоминавший старого беспринципного кубинского герильеро со своей дремучей бородой, такой же снежно-белой, как его всклокоченная грива, с хитро поблескивающими глазками за стеклами очков. Или с принципами, которые шли вразрез с убеждениями всего остального человечества.
– Я не хочу быть привязанным к месту, куда обязан возвращаться. Живу там, где живу, а когда там больше нечего снимать, иду жить в другое место, вот и все…
Пас молчала, задумчиво, машинально чертя сложные фигуры на запотевшем стакане, похожем на женский торс.
– Нужно повторять и повторять один и тот же снимок, – втолковывал ей Куделка, – это единственный способ добиться максимального успеха!
Вот такой подход к делу. И всегда – на винтажную камеру, позволявшую, по ее словам, играть со светом, материалами, мрамором, солнцем и бронзой, как это делают живописцы. Да и со временем тоже, ибо такая камера давала возможность делать длинные экспозиции. Пас и тут работала, стоя на платформе, возвышаясь над людьми и экспонатами. Одно только небо было выше твоей матери, Эктор. Как же я радовался, видя ее в самом сердце музея, в центре просторного нефа Орсэ, бывшего приюта поездов, которые позже уступили место другим двигателям прогресса – произведениям искусства, обладающим другим могуществом! У Пас было два ассистента – парочка студентов Школы изобразительных искусств, Жюльен и Аурелия; я называл их ее весталками, ибо они отличались безграничным терпением и бесконечной преданностью этой современной жрице, которая иногда украшала волосы веткой плюща и командовала ими, отдавая какие-то загадочные распоряжения. Я этих слов не понимал, но, видимо, они способствовали успеху их ритуального действа, а именно охоты на жизнь, превращения мужчин, женщин и даже произведений искусства – словом, всего, что она ловила в свой объектив, – во что-то вроде игрушек. Когда ты увидишь эти фотографии, Эктор, ты поймешь, что я имел в виду, ведь даже произведения искусства выглядят на них как игрушки. Она взирала на них сверху вниз. Держала дистанцию. Это она была королевой, они же были лилипутами. Она повелевала всем и всеми. А над ее головой, смягченный стеклянной выгнутой крышей, искрился и мерцал летний свет.