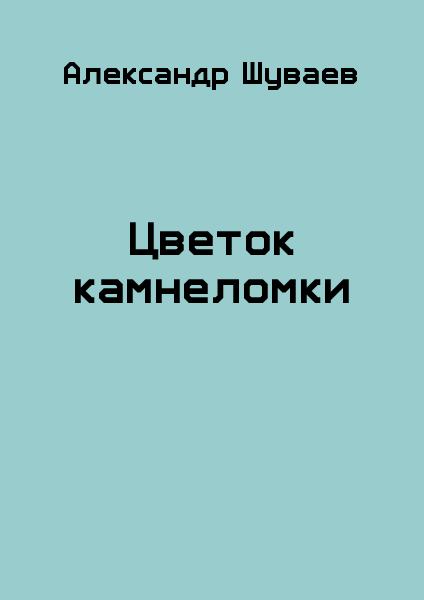огонек у дюзы увеличился и стал ярче.
– Температуры выхлопа и подложки – каждые тридцать секунд.
– Двадцать три – четыреста, девятьсот восемьдесят… Двадцать три – четыреста, тысяча ровно… Двадцать три – пятьсот, тысяча сто тридцать… Двадцать три – пятьсот, тысяча двести девяносто… Двадцать три – пятьсот, тысяча четыреста тридцать… Кривая роста температуры подложки приобрела характер экспоненты!
Прозрачный от чудовищного накала факел на миг налился опаловым сиянием, обесцветился, резко удлинился.
– Испарение активного слоя! Испарение подложки!
Модель внизу исчезла в ослепительной вспышке, ярко светящийся шар с угрожающей медлительностью всплыл к пасмурному небу, а до наблюдателей донесся резкий порыв горячего ветра. Еретик, в миру Ерезин Юрий Кондратьевич, прищурившись, некоторое время созерцал расплывающееся в небе грибовидное облако, а потом проворчал:
– Бум. Через пять минут стрелки автоматически сойдутся на двенадцати, и произойдет маленький ядерный взрыв… Даже в таком убогом виде наша скороспелая самоделка по всем статьям превосходит все имеющиеся двигатели третьей ступени… И какие же из всего этого мы можем сделать выводы? Саня?
– Принципиальность вредна принципиально. Не нужно даже и пытаться делать аппарат, выходящий на орбиту целиком. Взлет с гиперзвукового носителя – то, что нужно. И ничем это не плохо.
Еретик кивнул и обернулся к другому своему соратнику.
– До "чистого" трансатмосферника мы не доросли идейно и эволюционно. – Проговорил тот. – Нужно навести справки, как обстоят дела с Базой в хозяйстве Седьмака.
– Мы сделаем и то, и другое, – подытожил Еретик, – и получиться должно неплохо. Вот только…
– Да, только. Узнает Слушко, и будет большая беда. Старик великий конструктор…
– Был великим конструктором.
– Грань, знаешь ли тонкая… Но он злопамятен, как слон, борьбу ведет всегда до полного уничтожения противника, и является убежденным интриганом.
– Как все они.
– Как все они. Иначе в те времена было просто не выжить. Так что придется и нам.
– В интересах дела и спасения шкуры ради. Дорио-Доренский вытребует нас к себе.
– Я, вообще-то, ракетчик.
– И сам же приложил руку к тому, чтобы разница тихонько сошла на-нет.
– Что-то меняется голуби, что-то меняется. Мы смогли провернуть это, по сути, самоуправство, которое ни за что не прошло бы еще лет пять тому назад.
– Чего-чего? Что ты там такое?
Вид у бывшего технолога, смотавшегося из города сразу же после увольнения, и изысканного неумолимо методичным Моховым во время очередного отпуска в девятистах километрах восточнее, был совершенно ужасный. Невысокого, полненького, улыбчивого человека, подвижного, как ртуть, сравнительно молодого, было невозможно узнать. Лицо у него странным образом и похудело, обрезалось, и, одновременно, как-то оплыло, обрюзгло. Под потухшими глазами залегли сизые мешки, а на недавно еще тугих, розовых щеках виднелась трехдневная щетина. От него не то, чтобы пованивало, а – отдавало запущенностью, несвежей одеждой, не бог весть каким жильем, а еще – безнадежностью. Тем, что не способствует успешному проживанию в общежитие. А вот чем от него попахивало вполне явственно, хоть и не по-наглому, так это перегарцем. Запашок был несильный, но устойчивый, как выхлопными газами – рядом со спокойненько пофыркивающей отрегулированным дизелем грузовой машиной, трактором или танком.
– Поговорить, говорю, надо. Я тут кое-что добыл, а самому – не разобраться.
– Чего добыл-то? Ко мне – зачем? Не при чем я теперь, ничего не знаю, ничего не ведаю. Знаешь, – ты уходи лучше.
Глянув на него, Мохов, который, начал уже было отчаиваться, застав вместо искомого специалиста совершеннейшую развалину, вдруг жестко, понимающе усмехнулся. Как Вельзевул при виде того, кто кричит "Изыди, сатана!" – надрывно-слабеющим голосом. Он не для того провел вовсе небыструю и непростую операцию розыска, и сумел проделать это вполне-вполне скрытно. А было это, кстати, учитывая исправную деятельность службы, возглавляемой товарищем Гаряевым, было ой, как непросто! Так что теперь он ни в коем случае не собирался поворачивать назад по причине трусости и слюнтяйства спившегося инженера.
– Ты, – жизнерадостно, так, чтобы не чувствовалось и малейшего намерения сострадать или проявлять душевную деликатность, хохотнул он, бесцеремонно облапив его за плечо, – чего перепугался-то, а? Ты ж меня знаешь…
– Нашли-таки, – затравленно прошипел технолог, – так и знал, что не оставят в покое…
– А? Ты вот что, – где тут есть место, чтоб можно было посидеть со вкусом, чтоб не мешали?
– Да пожалуйста! – Издевательским тоном запел Костин, шутовски раскланиваясь, – где прикажете! На каждом углу кабаки и бары с ресторанами! Кухня народов мира! На-апитки в ассортименте! – Вдруг замолчав, он глянул в лицо Мохову в упор. – Ты, Витенька, от жизни оторвался. Тут тебе не Курчинский Соцгород! Тут на всю помойку, – одна "стекляшка" с портвейном! На все тридцать семь тыщ народонаселения!
– Ну тык, Анатольич, ты-то ведь устроишь? Ты ж теперь навроде как местный…
– Не прид-дуривайся, клоун!
– А че? – Зловеще похохатывал Мохов. – Это я от смущения. В жизни никогда не умел взятку сунуть… Так как? Я угощаю…
– Не нуждаюсь!
– Да что ты, право слово! Нальем по стакашку, с устатку… Ты ж со смены? Так что сам бог велел. Во-от. Лучку там, колбаски, килечки… Может, – у тебя хозяйка какая есть, капустки там вынесет.
Слушая его, Костин непроизвольно глотнул, а в глазах его появился сухой блеск.
– Да есть тут дедок один неподалеку. Ты ссудишь рублишко, а? Я с получки вышлю…
– Ну я ж сказал! Я ж с отпускными, да еще с премией. Ставлю, инженер, это ж я к тебе пришел, это ты мне нужен, не наоборот. Не комплексуй, как выражается… Один мой ста-арый знакомый.
Улица, как и соседние, как тысячи таких же в десятках, сотнях городов и поселков, больше всего напоминала овражек между косогоров, косое дно которого было засыпано толстым слоем золы и шлака. Тут кисло пахло угарцем, и прямо в глиняном русле, переныривая из одной ржавой трубы в другую, выходили на поверхность мутные ручейки, отдававшие безнадежной, сиротской