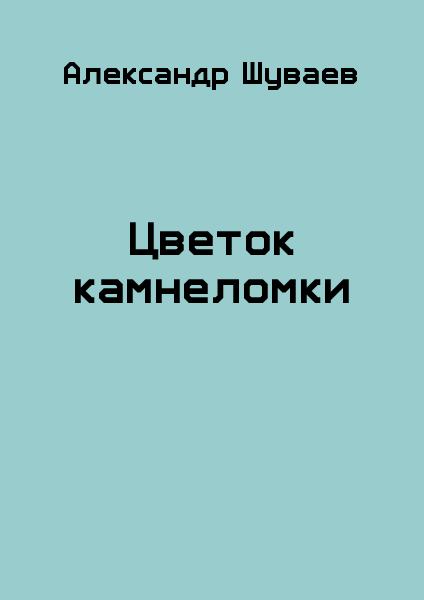вонью. И дома – как рубище нищего, состоящее из одних заплат, и видно, что убогая, недоделанная разномастность эта – не по бедности даже, а просто население такое. Не деревня, не город. Коров нет, козы – наперечет, а вот семь-восемь встрепанных курей, от которых больше неприятностей, чем яиц, – чуть ни на каждом втором дворе. Население тут проживало, как положено, более-менее сидевшее. И от оврагов пошире ветвились узенькие, совсем уж косые и горбатые овражки-переулочки.
– Так, дед, – сразу же, с первого взгляда насквозь распознав природу хозяина, взял быка за рога Мохов, – давай так: чтоб если после нас еще какие клиенты появятся, так ты, ежели надо, – обслужи, а на двор не веди. Ей-ей ни к чему тебе это, старичок.
Хозяин, крепкий старик с пустой штаниной по причине потерянной при каких-то загадочных обстоятельствах ноги и с нечесаными сивыми волосами, прищурился на него и ласковенько проговорил:
– А ты б, голубь, не распоряжался в чужой избе. Придешь, значится, к себе на двор, так там и командуй. А не нравится тебе у меня, так я не держу никого.
– Так, старичок, – Витя остро глянул ему в глаза, – во-первых, я не распоряжаюсь а про-ошу. А во-вторых, – не гордился б ты, а? И невыгодно будет, и… вообще ни к чему.
Старичок, последний раз гостивший у кума двенадцать лет тому назад, недолго, всего-навсего четыре года, помаргивая, смотрел на гостя, а в сивой голове его шла тем временем лихорадочная работа. Гость был, вообще говоря, непонятен, не тянул ни на вора, ни на обычного фраера из богатеньких… В конце концов он решил, что в его времена таких типов просто-напросто не было, но ощутил при этом давно, казалось бы, позабытое чувство, когда волосы на шее, сзади, вроде бы как зашевелились: это нельзя было назвать страхом, это было, скорее, могучее ощущение опасности. И даже это не было бы вполне точным: чувство дела. Как в старые, добрые времена, когда на хазах собирались люди, – Кучум, Зуб, Бесо, чтоб это самое дело обсудить. Большие люди, он в таких никогда не ходил, большие дела, – он никогда не имел в таких доли. Кто их знает, этих нынешних, может, за вислоусого за этого в клочки порвут, только мало повременя…
… Больше всего он напоминал бы богатенького, удачливого и оборзевшего барыгу откуда-нибудь из солнечной Грузии, не будь он таким явным русаком. Молчание он, кажется, совершенно правильно и быстро понял как согласие хозяина:
– Ты так, чтоб без обид, дедусь, – мы тут поначалу без тебя обкашляем одно тут дело, а потом и тебя к столу пригласим. Лады? И того, – самогонку давай ту, которую для себя держишь, не обижу.
– Ну что, Сергей Анатолич, – по вонюченькому?
– Мне это, бражки… Бражки для начала, а то я что-то быстро хмелеть начал. И самогонку нутро не принимает, если сначала.
– Ага. Тогда так, хозяин, – бражки нам цеженой изобрази, а?
Воцарилось молчание, на протяжении которого Мохов, добыв из недр чудовищного (на двадцать две бутылки пива) портфеля копченого сала в прослойку, и окатистую глыбу какой-то ветчины, пластал ее куда более острым, чем пресловутая бритва, собственноручно сделанным из краденой заготовки к лезвию УМТ ножом. Ветчина оказалась такая, что ничего подобного не приходилось пробовать ни в старые, добрые времена, ни на банкетах "с барского плеча", которые время от времени устраивало для сотрудников начальство: от нее положительно невозможно было оторваться. Так, что даже он, давным-давно страдавший от горечи во рту и не имевший никакого аппетита, незаметно для себя увлекся.
– Откуда, – прочавкал он набитым ртом, указывая на снедь алюминиевой вилкой, поданной справным хозяином к столу для особо почетных гостей, – такая штука?
– А-а, бабка, куркулиха со Старого Города делает. Окорок от свиньи берет, понимаешь, и как-то там в тесте запекает. Я ей – деньжонок на покупку трех-четырех поросят, подкормку там, литров десять "шесть девяток" когда-никогда. А она мне, ведьма старая, – на зиму тушенки, колбаски домашней, сала бекончиком, очень я его уважаю. Лопатку. Окорок копченый, окорок запеченный.
– Хм… – Костин неожиданно задумался. – Надо же! Никогда б в голову не пришло. Все продуктовые заказы выбирал. И радовался, что в нашем-то Столе Заказов, – более-менее есть все-таки выбор. А ты жу-ук!
– При чем тут, – Витя пожал плечами, – чего тут криминального? Всем хорошо и никому не плохо. И мне, и ей, и тебе, и, вот, – он показал, – даже деду.
– А подкормка-то откуда?
– Так ты не слыхал? "Амиграм", – за него же драка промеж куркулей. Мы еще того года в Орле синтез наладили. Скандал был, правда, страшный. Наши – ни в какую, не знаю уж, кто и как утолок-то их. Ну, мы и того… Им-то – что? Жалко, что ли? С порожняком, по договору, по госцене, все чинно-благородно, у кого хозяйство. Вот и я. Сначала, правда, не знал, что с этими мешками делать, весь подвал мне захламили…
– Так это ты бабку куркулихой называешь? Ну ладно, говори теперь, – чего вам всем понадобилось-то от меня?
– Вот вы, Сергей Анатольевич, – проговорил "кассир", выпивая и закусывая, – уже второй раз говорите про каких-то там "вас". Так мне это даже обидно, потому что никаких таких "нас" и вовсе нет, а есть один только я, собственной персоной. Никто больше не только вас не искал, но и не знает ничего… А дело мое состоит в том, что я… Что мне в руки попалась капелька "универсалов", – он отхлебнул самогончика, исподволь сменившего к этому времени брагу, и уточнил, – полных.
Он никогда бы не поверил, что человек может так побледнеть в такое короткое время. Лицо технолога как будто обсыпало мукой. Не в силах говорить, он только беззвучно открывал и закрывал рот, и на какой-то миг Мохову показалось, что тот так и не отдышится, помрет прямо здесь, в пропахшем кислятиной, затхлом закуте, за столом, покрытом почерневшей от жизненных невзгод клеенкой.
– Так. Парень, ты такими вещами не шути. Чем угодно шути, а этим – не смей… Постой-ка… А-а-а! Ну, знаешь, я был о полковнике Гаряеве лучшего мнения, – та-акая