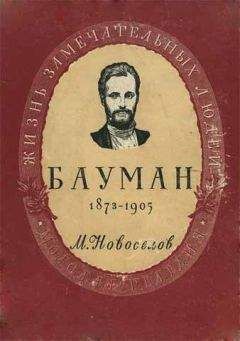Павло тряхнул кудрями, завидев Люсю; пошел навстречу, пристукивая подковами смазных высоких сапог. Смотрит по сторонам на прохожих, покрикивает весело, как самый заправский разносчик:
— Во-от шары так шары! Купите шарик. За пятак — на крышу, за рубль — на луну.
Привязался к толстой женщине с шелковым ридикюлем, в соломенной шляпке грибом. Идет рядом, предлагает:
— Купите, барыня! За пятак — на крышу. С ручательством…
Смеются прохожие. Подмигнул Павло пьяненький мастеровой:
— Эдакую тушу на фонарь и то не подымешь…
Люся с Лешей незаметно поравнялись с продавцом. Он — и к ним, картуз наотлет:
— За пятак на крышу… Порадуйте молодого человека.
Люся улыбнулась. Но лицо у нее бледнее. Упорно бьется на виске голубой живчик. В левой руке — газетной бумагой окутанный тяжелый букет. До тюрьмы далеко. Она шла, все время сменяя руки: из левой в правую — и в левую опять. В одной никак нельзя было донести. А сейчас обе руки оттянуло, дрожат.
Павло. Тюрьма. Дошла.
Мышцы перестали дрожать.
— Нет уж, нам за рубль — на луну. Да, Леша?
Леша потупился, пряча необоримую свою радость. Павло посмотрел Люсе в лицо и поторопился отвязать белый, самый верхний, самый большой, самый дорогой шар. С петухом.
— Держи до времени, кавалер. Пустишь — вперед хвостом полетит.
Леша поднял голову. И заморгал часто-часто.
— Дядя Павло!
На подполье первое дело при встрече со знакомым — не посмотреть ему в глаза. Если посмотришь — обязательно опознают. Лицо, голос, рост — все можно изменить, но глаза — нет. Павло не остерегся… может быть потому, что Люсино лицо, бледное, смутило его. Назло заговорил чужим, разносчичьим голосом, но глаз не спрятал. И сразу же его опознал Леша.
Люся рванула сына за руку прочь:
— Какой Павло? Что тебе чудится!..
На счастье, поблизости-никого, никто не мог слышать. Только старушонка какая-то, сухонькая и горбя-тенькая-платок на самый нос сполз, — тащит кошелку; из кошелки-рыбий хвост. Глухая, наверно.
А Павло далеко уже, на самом перекрестке, кричит опять, потряхивая разноцветной своей связкой: «Вот шары-шарики!..»-и косит глазом на высящийся за стеною тюремный корпус, на крайнее, во втором этаже, зарешеченное окно.
На Люсин сигнал в этом окне должен показаться ответный.
Люся наклонилась к Леше:
— На луну, да, Лешенька? Петух хвостом вперед полетит, — слышал, как дядя говорил? Вот смешно будет! Разожми руку, пусти веревку.
Мальчик глянул на мать, осторожно кося черный, как у нее, большой и влажный глаз, и тесней зажал в кулачок коротенький хвостик веревки.
У Люси дрогнули ресницы: не пустит.
— Посмотри, небо какое: синее-синее. А шарик белый. Когда он полетит, как будет красиво! Как будет весело!
Леша слушал внимательно. Потом он высвободил левую руку, за которую вела его мать, и зажал бечевку уже не в одну- в две руки, чтоб крепче было.
— Леша!
На тюремном дворе, в крайней, «искровской» клетке, громче обычного щелкали палки о чурки. Или только так кажется, что громче? Наверно — кажется, потому что все сегодня громче обычного: и голоса, и хруст песка под подошвой, и чириканье воробьев, и стук.
Гурский ходил с Бауманом под руку. По временам они откровенно — пожалуй, даже слишком откровенно-поглядывали на небо. Впрочем, день ясный, солнечный, небо синее, ни облака, ни тучки-отчего и не порадоваться на такое синее небо арестанту! Пошлют на каторгу, в кандалах, — там не полюбуешься. Сибирь-не Киев. А искровцы-всем известно-в каторгу пойдут. Новицкий уже закончил следствие, то есть подобрал в законе все статьи, какие надо для каторжного приговора: и оскорбление величества, и подготовка «насильственного ниспровержения существующего строя», и «незаконное сообщество, присвоившее себе наименование…». Всё есть.
Часовой под «грибом», в тени, вздохнул лениво и свесил берданку дулом вниз. Сколько уже за шесть лет службы прошло у него перед глазами на этом самом дворе «политических» — не то что на каторгу, а и на виселицу! Стены не зря фамилиями исписаны сплошь. И «искровские» имена-там же. На память.
Гурский ворчал, теребя клочкастую, нечесаную бороду:
— Нет сигнала. Значит, передачи не будет. Значит, кошка не готова. Или, может быть, провал?
Бауман толкнул его плечом безо всякой нежности:
— Да ну тебя! Зачем, почему…
Он не договорил. Из-за крыши ввысь, прямым, плавным полетом, поднялся белый с синим, ярко видным на солнце петухом воздушный шар.
— Сигнал… Ходу, Грач! Отвечай. Я буду следить за их ответным…
Гурский круто повернул к городкам. Со свистом пролетела, крутясь, дубинка…
— Очумел! Под самый удар… Без ног хочешь остаться?
Бауман-в камере, с табуретки — закинул, закрутил длинное белое полотенце вокруг ржавого толстого железного прута оконной решетки.
И тотчас почти над тюремной стеной взвилась радостно к небу многоцветная связка шаров. Увидев полотенце, Павло разжал руку… шары рванулись — и следом за ними рванулся Павло. Побежал по улице, крича не своим голосом:
— Батюшки!.. Упустил!.. Упустил!.. Держи-и-и!..
Леша ахнул, забыв про слезы о вырвавшемся у мамы из рук улетевшем белом шаре с синим петухом.
Прохожие смеялись, оглядываясь вслед бежавшему во всю прыть, нелепым бегом, Павло. Смеялись и надзиратели на тюремном дворе, запрокинув бородатые головы, глядя на исчезавшие уже в синем просторе шары. Они казались неподвижными, только становились всё меньше, меньше, меньше…
— Ну попадет ему от хозяина… Тут рублей на двадцать, ей-богу… Вот раззява несчастная!
Меньше, меньше, меньше… Вот и совсем не видно. Три сигнала. Все сказано, что нужно. «У нас всё готово».
«И у нас».
«Передаем кошку».
Люся с сынишкой подошла к тюремным воротам. Волнение не проходило. Напротив, когда Павло закричал и побежал, она ясно представила себе: белое полотенце плещет по воздуху с частой ржавой решетки, его на весь город видно, наверно, — и, наверно, весь город понял, что это значит: шар — полотенце — и опять шары; и бегущий по улице опрометью веселый парень; и красивая женщина в шляпке с отогнутыми вверх полями, с огромным букетом, закутанным в газетную бумагу. Весь город понял. И весь город ждет: что будет дальше?
Люся разнервничалась совсем. Даже щеки разгорелись румянцем, как никогда.
— Ты что? Ты о чем, мама?..
Дежурный надзиратель, небритый и грязный, хмуро глянул, почти что не раскрывая дремотой сомкнутых глаз, и лениво помотал рукой:
— Проходите. Нынче приему нет.