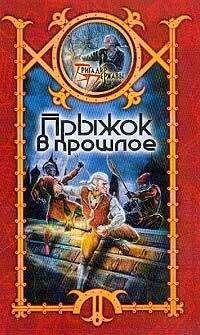О цене мы не говорили, хотя этот вопрос меня и занимал. Тянуть деньги у Антона Ивановича на экипировку было неловко, халявничать, пользуясь крепостной зависимостью Котомкина, тем более. Как заработать деньги в чужой эпохе, я не представлял. Пришлось оставить этот вопрос открытым, понадеявшись на популярное понятие «авось».
Фрол Исаевич собирался шить на месте, в имении, вызвав себе в подмогу подмастерьев. Нужно было его прилично устроить.
Я пригласил ключницу и поручил портного ее заботам.
Все время визита Аля просидела на лавке со своим шитьем в руках, не вмешиваясь в наши переговоры.
— Ну, что, — спросил я ее, — не напугал я его?
— Не напугал, он думает, что ты «не от мира сего», как Христос, прости меня Господи, — сказала она и перекрестилась. — Еще у него беда большая, дочь единственная помирает. В людской ему сказали, что ты меня и толстого барина от смерти спас, он все хотел попросить за дочку, да робел.
— А что он за человек, как тебе показался?
— Хороший человек, нет у него на душе зла.
— Тихон! — позвал я.
Нетрезвый слуга просунул голову в двери и икнул.
— Пойди, приведи портного.
— Чичас, — пообещал Тихон и, опять икнув, исчез.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я Алю.
— Хорошо.
— Ничего не болит? Голова, в груди?
— Спасибо, Алеша, все хорошо.
— В город со мной поедешь, дочку портного лечить?
Аля скромно потупила глаза:
— Поеду, коли возьмешь.
— Куда же я без тебя…
Наш разговор прервал осторожный стук в дверь.
— Войдите, — пригласил я. Вошел Фрол Исаевич.
— Изволили звать, ваше благородие?
— Изволил. Скажите, что там с вашей дочерью приключилось?
Вопрос портного напугал. Он остолбенелыми глазами смотрел на меня, пока не взял себя в руки.
— Помирает дочка, ваше благородие, сюда ехал, не чаял, что по возвращении в живых застану. Совсем плоха.
— Что с ней?
— Не могу знать, ваше благородие, должно быть, лихоманка. Ее немец лекарь пользует. Уже пять раз кровь отворял, не помогает. Знахарки ходят. Молебны я заказывал, а ей все хуже и хуже… Барин, я слыхал, ты мертвых воскрешаешь, аки Спаситель Лазаря… Век стану Бога молить… Шестеро деток было, все преставились, окромя Дуни. Да и та, видать, не жилец…
Он заплакал, беззвучно глотая слезы, и опустился на колени.
— Бросьте, Фрол Исаевич, как не стыдно. Никаких мертвых я не воскрешаю. Живым, по мере сил помогаю, это правда. Только безо всяких чудес.
— Спаси, барин, дочь, чем хошь отслужу, — попросил портной, так и не вставая с колен.
— До города далеко ли?
— Рядышком, рядышком, — радостно сказал он, отирая слезы. — Верст пятнадцать будет… с гаком. На двуколке часа в два доедем, а там и платье тебе спроворим, и барышне твоей.
Он так разволновался, что перестал добавлять в конце слов вежливое «-с» и Алю, одетую в холщовую рубаху, назвал не «девкой», а «барышней», что, как я заметил, ей чрезвычайно понравилось.
— Алешенька, поедем… — попросила она сладким голоском.
— Тихон! — закричал я.
— Чего изволите?
— Где барин?
— С гостями и девками в баню пошел.
— Что, и поп с ними?
Тихон хмыкнул и кивнул.
— Известно.
— Передашь барину, как вернется, что я с Котомкиным в город уехал и Алевтину с собой взял, как освобожусь, вернусь. А сейчас ступай на конюшню и вели конюху заложить двуколку Фрола Исаевича.
Собраться нам было, только подпоясаться. Портной уступил мне свой дорожный плащ, и я наконец смог снять душный парчовый халат. Аля собралась было нарядиться в «новое» платье, но я уговорил ее поехать в старом сарафане, чтобы не смущать людей.
Когда экипаж заложили, мы вышли во двор. Двуколка представляла собой примитивный безрессорный экипаж с двумя огромными колесами и одним сидением со спинкой, на котором с трудом могло поместиться три человека. От тряски седоков спасали только кожаные подушки, набитые конским волосом.
Котомкин сел за кучера, мы умостились рядом и тронулись в путь.
Везла нас симпатичная гнедая лошадка. Было около пяти часов вечера, солнце еще и не думало смирять свой пыл, так что в дорожном плаще портного оказалось жарко.
Мне тряская езда по пыльной грунтовке не нравилась, но Аля, впервые путешествующая в сознательном возрасте, была в восторге. Мало того, что ее провожали завистливые взгляды всей наличной на тот момент дворни, но впереди ждал огромный, загадочный мир — было от чего трусить и торжествовать.
Большой мир начинался проселками, заросшими травой, полями почти созревшей ржи и почтительными крестьянами, снимавшими при нашем приближении шапки. Потом дорога ушла в лес и стала более тряской.
По моим подсчетам пятнадцать верст давно кончились, остался немереный «гак». Котомкин подгонял и подгонял лошадку так, что она стала поворачивать голову и укоризненно косить глазом. Около восьми вечера наконец появились признаки приближающегося города. Потянулись огороды и редкие избы.
Городишко, в который мы направлялись, носил типовое имя Троицк и не прославился ни в седую старину, ни в позднейшие времена. Я, во всяком случае, никогда о нем не слышал. Обычный, говоря современным языком, районный центр с мощеной камнем центральной улицей, дощатыми тротуарами, почерневшими от времени корявыми избами с кривыми плетнями и высохшими, в связи с засушливым летом, «миргородскими» лужами.
Приличные дома стали попадаться только ближе к центру. Некоторые были даже каменными. Основную же долю «жилого фонда» составляли рубленные, почти крестьянские избы, приличную часть — бревенчатые дома на каменном подклете. Несколько домов, как я уже говорил, были вполне цивильными. Люди на улицах встречались довольно редко, зато в изобилии было домашней птицы, коз, телят и прочей живности. Мы миновали центр с двумя внушительного вида соборами и несколькими кирпичными зданиями присутственного типа. Аля крестилась на церкви и управы и глядела во все глаза, чтобы не упустить ничего из чудес цивилизации.
Я, напротив, ничему не удивлялся и с грустью думал о том, почему у нас все такое кривое и косое, и что имел в виду угрюмый режиссер Говорухин, стеная о чем-то нами потерянном в старой России.
Портной жил недалеко от центра. Вместо вывески на его воротах были намалеваны жилетка и панталоны. Дом был довольно большой. В нем обитали хозяева, подмастерья и ученики. Сама портняжная мастерская располагалась во флигеле в глубине двора.
Наше появление произвело переполох. Забегали какие-то люди, лошадь тотчас распрягли, и мальчик лет двенадцати начал «водить» ее по двору. С крыльца спустилась миловидная, дородная женщина с заплаканными глазами, как я догадался, хозяйка, и пригласила нас в дом.