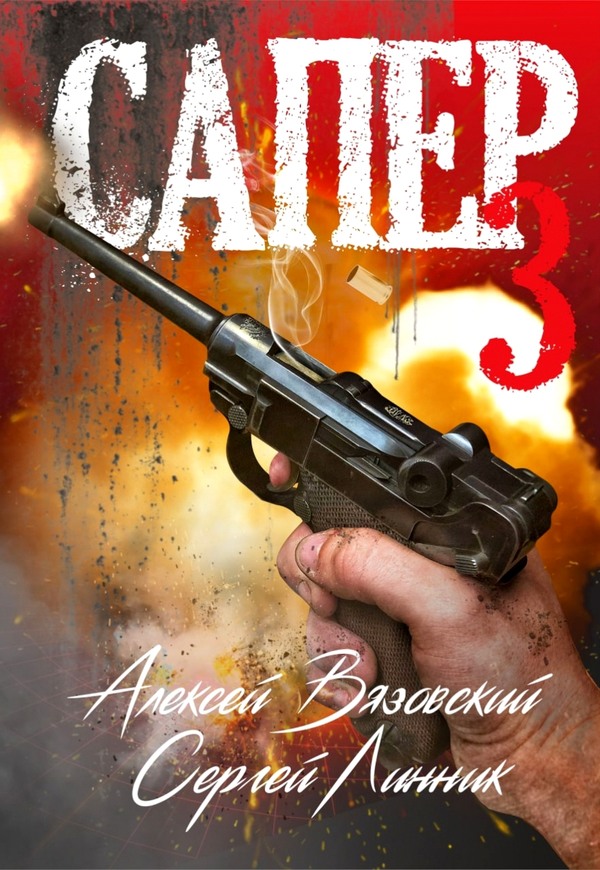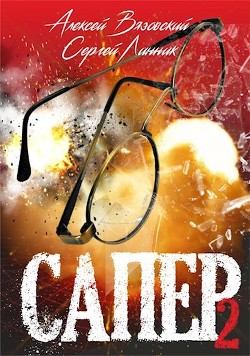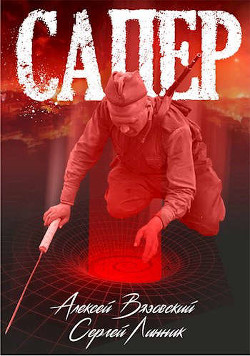но тут пришел Сабуров. С Базановым. И Яковом. Эти тоже про диверсию с ватой не сказали ничего, а только начали в сто первый раз обсуждать ожидающийся сегодняшней ночью самолет.
А что там обсуждать? Вот прилетит, выгрузим, тогда и начнем думать, что кому и сколько раз. Место обговорено, поле подготовлено. За работу, товарищи. А я, извините, тут немного полежу, путем постельного режима укреплю здоровье.
На самом деле я с этим аэропланом всю душу извел. Как же некстати прилетела проклятая пуля! Сам же и виноват: не добил я того поганца-фельдфебеля на мосту, вот он и потратил последний в своей жизни выстрел на меня. А ведь я ему дважды в грудь саданул, а потом в голову! Или это я только собирался? Точно, как сейчас вижу: я иду вперед, останавливаюсь возле лежащего охранника, и… начал стрелять пулемет, я упал, причем рядом с немцем… встал… и пошел дальше… Никто фашиста штыком не приголубил, мучения не прекратил. Вот он обиделся и подстрелил меня.
Стареем, Петр Николаевич, хватку теряем…
Соратники, глядя на мою задумчивость, видимо, решили, что командирское благословение получено, потихонечку встали и пошли переживать без меня. А как же: утрамбовано ли поле, хватит ли его длины, чтобы самолет сел, хорошо ли будут гореть костры-ориентиры, увидит ли наш летчик куда ему садиться, не помешает ли облачность, не заявятся ли немцы? Вопросы, вопросы, а ответов на них пока нет. И я тут лежу с треснувшим ребром и почти дыркой в голове! Эх, мне бы самому туда! Вот чувствую, что без меня накосячат!
Впрочем, долго переживать не пришлось. Совсем под вечер опять заявились раскрасневшиеся Параска, Анна, несколько партизан, прямо скажем, навеселе. Вместе с гармонистом.
— Смотри, что мы нашли! — радистка кивнула Ильязу, тот достал из-за спины… гитару!
— Смуглянку! — тут же заверещала Параска. Партизаны ее дружно поддержали.
— Да тут у нас теперь целый оркестр, — я посмотрел на гармониста с залихватским чубом. — Звать тебя как?
— Егор.
— Ну что же Егор… — я аккуратно, стараясь не охать, сел на кровати, подвинул ноги поближе к гудящей печке. — Подыграй, как сможешь. Мелодия простая. Это Алексей Сурков стихи написал.
Перед глазами промелькнули наши посиделки на тюремной самодеятельности. Похожая печка, снег за окном…
— …Бьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза, И поёт мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза…
Я подмигнул ошарашенной Анне, продолжил:
…Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Сельцой. Я хочу, чтобы слышала ты, Как тоскует мой голос живой.
Москву пришлось заменить на брянский городок, но так даже получилось лучше.
— ….Ты сейчас далеко-далеко. Между нами — снега и снега. До тебя мне дойти не легко, А до смерти четыре шага…
Подействовало! Да еще как… Глаза девушек увлажнились, лица парней нахмурились. Четыре шага до смерти — тут считай везде.
Допевал я уже под рулады гармониста. Егор быстро понял нехитрые аккорды, подстроился.
— Еще!
— На бис!
Стоило закончить — партизаны тут же загалдели, в хату начали заглядывать новые бойцы. Новогодний вечер обещал стать жарким.
И тут пришел главный врач. Палата опустела вмиг, он даже не успел спросить, что здесь творится. Только оставленная второпях гитара жалобно дзынькнула первой струной.
— Как дети, честное слово! — начал отчитывать меня Иосиф Эмильевич. Понятное дело, я же убежать не могу. — Сказано же: постельный режим и покой, а не концерты устраивать! Песня хорошая, не спорю, но надо думать и об отдаленных последствиях. А то потом будете ходить и просить: ой, доктор дорогой, дайте порошочек, голова болит и кружится, — последние слова он проговорил явно кривляясь. — А я предупреждаю всех, что в случае нарушения режима ответственности не несу! Санитарка! — крикнул он куда-то в коридор. — Полы здесь протереть! У нас больница, а не хлев!
* * *
Все-таки болезнь — дело такое, сильно ослабляющее. Хотел дождаться, когда наши придут с новостями про самолет, и не выдержал, уснул. Мне даже приснился сон, в котором я в гостинице «Москва», в том самом номере с роялем, где в последний раз останавливались с Кирпоносом. И будто лежу я в роскошной пятиспальной постели, но никак не могу из нее выбраться, хотя и очень хочу, потому что в соседней комнате рычит немецкий танк. И тут я проснулся.
Немецкий танк оказался вполне себе нашим советским мужиком, который выводил рулады высокохудожественного храпа. Почему я его определил как нашего? Так всё просто: он начал поворачиваться, видать, что-то заболело и он четко и ясно произнес название ноты «ля». Фашисты так не скажут, ответственно говорю.
На улице еще темно было, а мне хотелось досмотреть сон про гостиницу. Может, там и жена будет. Но новоявленный сосед всё никак не унимался и храпел так, что я начал опасаться за целостность стекол.
— Эй, слышишь! — позвал я его. Одна надежда — он проснется, а я успею заснуть раньше, чем он начнет храпеть.
— Чего надо? — заворочался мужик. Говорит в нос, видать, из-за этого и храпит.
— Спишь, — говорю, — очень громко. Не по-партизански это, у нас шуметь нельзя.
— А ты кто такой? — спрашивает он. И так, по-командирски говорит, сразу видно, привык.
— Я тут командиром отряда, — отвечаю. — А вот ты кто, я не знаю. Представься.
— Богатым буду, Петр Николаевич, — говорит мужик. — Знакомы вроде, встречались. Старинов я, Илья Григорьевич.
— Извините, товарищ полковник, не признал, темно тут…
Вот же невдобняк получился, на самого Старинова голос повысил. Хотя в больнице вроде как и в бане, генералов не видно, а