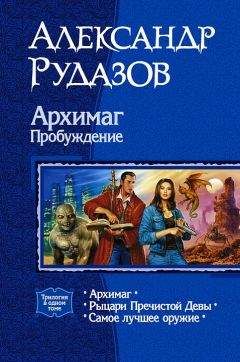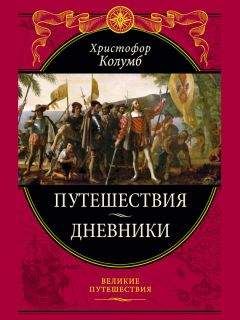Сестра испытующе посмотрела на брата, но на лице у того не отразилось и тени беспокойства. Вероятно, все ее опасения за судьбу Лопухина не имели оснований. А может быть, Митя в самом деле был лучшим актером, чем она.
От угрюмых берегов Шотландии до кипения пышной зелени на островах Азорского архипелага – ни много ни мало тысяча шестьсот морских миль. Чтобы преодолеть их, «Победославу» потребовалось четырнадцать суток.
Трое из них – отчасти прав оказался великий князь Дмитрий Константинович – пришлось простоять в полосе мертвого штиля. Снабженный биноклем матрос без всякого результата сидел в «вороньем гнезде», вглядываясь в пустынный горизонт. Ни мачт, ни дыма. К юго-западу от Ирландии нечего делать ни торговым судам, ни военным. Разве что случайный китобой или рыбак забредет в эти воды, спеша на промысел к берегам Ньюфаундленда – или же обратно с полными трюмами. Всем известно, что исландцы не трогают ни китобоев, ни рыбаков, платящих им дань.
Еще реже в этих водах можно встретить английское или немецкое судно, направляющееся в Китай не привычным путем через Индийский океан с многочисленными угольными базами по пути, а напрямую через Великую Атлантику. Просить у него угля совершенно бессмысленно.
Даже встреча с пиратами здесь маловероятна, хотя и не исключена полностью. Мертвые, никому не нужные воды. Пятьсот миль до оживленных торговых путей.
Появись поблизости исландцы, хотя бы малыми силами – и пропал «Победослав», это понимал каждый. Без машинного хода, в штиль, корвет не корвет, а слабенькая стационарная батарея. Мишень, о которой любой противник может только мечтать.
Много ли пользы от того, что механики под руководством лейтенанта Гжатского исправили-таки механизм наведения кормовой пушки?! При атаке с кормы или носа – а ведь несомненно так и будет! – неподвижный корвет сможет ответить огнем только из одного орудия.
Первые дни было все-таки легче. Тогда дул свежий ветер, и «Победослав», делая от семи до девяти узлов, уходил из опасного района. Простились с убитыми, причем отец Варфоломей отслужил поистине трогательную панихиду, – и море приняло тела. Потом принялись устранять повреждения, и Враницкий сейчас же поставил на работы всех, кроме подвахтенных. Между ним и Розеном произошел резкий разговор по поводу участия в работах морских пехотинцев. Последние выражали очень мало желания трудиться наравне с матросами, подвергаясь притом насмешкам из-за незнания самых простых вещей. В первый же день на шкафуте вспыхнула драка между несколькими морпехами и матросами – даже боцману Зоричу, человеку необычайной физической силы, не без труда удалось расшвырять буянов. Враницкий сам не утерпел – сгоряча смазал кого-то по уху.
И все же настроение команды было скорее радостное, нежели подавленное. Да, погибли товарищи, но ведь мертвых с того света не вернешь. Погиб «Чухонец», но ведь мы-то живы! Надо признаться: чудом живы! Прорвались и ушли, как в сказке. Будет что вспомнить на старости лет.
Никто из матросов не роптал на то, что отныне ему приходится давиться сухим пайком без водки и спать не в пробковой койке, а вповалку на полу кубрика. И офицеры, оказавшиеся в смысле удобств в ненамного лучшем положении, чем нижние чины, подшучивали над разоренной кают-компанией, где либо стой столбом, либо сиди по-турецки на голом полу. Не беда! Дойдем до Азор – все будет! Есть еще крохи топлива, чтобы раз в день вскипятить чай – ну и ладно.
Но заштилело – и настроение изменилось, будто повернули электрический выключатель. Тоскливое ожидание действовало на нервы. Солонина стояла комом в горле. Враницкий мрачнел, придирался к мелочам, чуть не избил корабельного плотника, не сумевшего полностью устранить течь, устраивал выволочки унтер-офицерам и по три раза на день приказывал играть дробь-тревогу.
– Шевелись, инвалидная команда! Веселее! Что за кислая рожа! Фамилия? – И немедленно изобретал наказание.
– Житья нет от аспида, – зло шептались в кубрике.
Даже Пыхачев, редко вмешивающийся в отношения старшего офицера с командой, на третьи сутки штиля усомнился:
– Стоит ли так дергать людей, Павел Васильевич? Не чересчур ли?
– Как прикажете, господин капитан первого ранга, – по уставу отвечал недовольный Враницкий, четко отдавая честь и щелкая каблуками.
– Перестаньте, прошу вас, – морщился, огорчаясь Пыхачев. – Вам виднее, конечно. И все же я опасаюсь, что вы перегнете палку…
Видя неподдельное огорчение командира, смягчался и Враницкий:
– Мне самому это не по душе, Леонтий Порфирьевич. А что прикажете делать? Или злость, или овсяный кисель вместо команды. Предпочитаю злость. Не для того мы удрали от пиратов на коньячном ходу, чтобы разлагаться без дела. Жаль, шлюпки мы пожгли, не на чем шлюпочное учение устроить…
– Ну добро.
И Пыхачев почти совсем перестал показываться из своей каюты, предпочитая там же и столоваться. Говорили, будто из его имущества уцелело несколько книг и все иконы, и каперанг проводит время в чтении и молитвах. Новый вестовой, правда, уверял, будто командир все время что-то пишет, черкает и снова пишет.
– Мало с честью отбиться от пиратов – надо еще отрапортовать так, чтобы не угодить под суд, – прокомментировал Тизенгаузен.
– Да за что же под суд? – наивно удивился Корнилович.
– За самовольное изменение курса, повлекшее опасность для жизни наследника престола, разумеется.
– Да ведь если по совести…
– Молчите, мичман. Судят не по совести, а по закону.
Батеньков делал обсервацию. Получалось, что корвет дрейфует на норд-ост со скоростью около сорока миль в сутки.
– Течение, господа, – разводил руками штурман. – Теплое течение, отклоняемое на север Срединно-Атлантической мелью. А замеряем-ка температуру воды…
Результатом замеров стало то, что в воду опустили парус и разрешили команде купаться в льняной лохани. Южане ежились:
– Зябко. Ровно как у нас на Кубани весной.
Спускали водолаза в тяжелом костюме. Водолаз ползал по подводной части судна, добираясь до самого киля, искал повреждения.
– Кажется, обойдемся без постановки в док, – говорили в кают-компании.
– А есть ли хороший док в Понта-Дельгада?
– Есть, но всего один. Там наверняка очередь на ремонт. Охота была застрять на полгода в той дыре!
– Не скажите, лейтенант, не скажите. Азоры – место сказочное. Экзотические берега, экзотические женщины…
– Недели на две-три точно застрянем. Будут вам женщины.
– Иной раз на рейде стоишь, на берег не пускают, а ветерок с берега запахи доносит, знаете, этак густыми волнами. Волшебное что-то…
На третий день над морем повис туман, видимость упала, и матрос зря сидел в «вороньем гнезде». А утром четвертого дня засвежело, и вскоре задул ровный норд-вест силой до четырех баллов.
Люди повеселели.
Невесел был лишь один пассажир, и звали этого пассажира Михаил Константинович. Его императорское высочество пребывал в недоуменной обиде на всех и вся. Проснувшись наутро после боя, он обнаружил, что лежит на кушетке, прикрытый пледом, что ему холодно, а бок затек, и невозможно вытянуть ноги, и голова болит так, будто кто-то перемешал ложкой все мозги да еще спрыснул их клопомором.
С головой было понятно – коньяк виноват, но почему кушетка и плед, а не кровать и одеяло? Поморщившись, цесаревич шире раскрыл глаза – и не узнал своей каюты.
Куда-то исчезла вся мебель и все скромные, но приличные особе императорской фамилии предметы обстановки. На полу и стенах не обнаружилось ковров. Остался лишь столик – как в насмешку.
Некоторое время цесаревич собирался с духом, а затем, слабо замычав, поднял хворую голову и скосил глаза туда, где полагалось стоять кровати. Увы – последняя также отсутствовала.
Тогда Михаил Константинович натянул плед на голову, закрыл с блаженным стоном глаза и стал видеть сны.
Приснилась такая гадость, что хоть караул кричи. Сон был вульгарен, страшен и попросту возмутителен: Михаил Константинович сидел в тюрьме. Стены большой неуютной камеры, холодные и отштукатуренные, были испещрены нацарапанными вкривь и вкось письменами томившихся здесь некогда узников. Надписи попадались всякие: и сакраментальное «Сижу за решеткой в темнице сырой», и «Кому Бело озеро, а мне черным-черно», напоминающее об известном Данииле, и «Комендант – первый вор», нацарапанное рукой какого-то ябеды, и даже сквалыжное «Умру, но брильянтов не отдам».
Морозом веяло от этих стен. Имелась, правда, вделанная в стену печь, но холодная и с топкой, открывающейся в тюремный коридор. Надо думать, ленивые тюремные сторожа позабыли ее натопить. Или дрова не были отпущены казною. А может быть, вор-комендант приказал перетащить их в свой дом и сидит сейчас в халате перед пылающим в камине огнем, глядит на пламя и жмурится, как сытый кот.
Это было несправедливо. Это было подло, наконец! Цесаревичу захотелось завыть и заплакать от обиды. На каком законном основании наследник русского престола должен околевать от холода, как сибирский зверь мамонт в мерзлом болоте?!