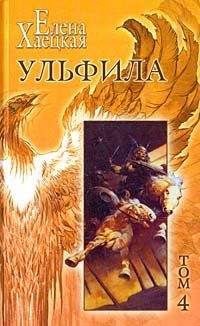Императорские слезы часто заканчиваются кровью подданных. А проливать кровь Амвросий не давал. Железной рукой удерживал толпу, где каждый второй рвался пострадать за веру. И беспорядков в городе не происходило. Разметать сторонников Амвросия было невозможно – не к чему придраться. Аланы зевали, держа оцепление.
Императрица вошла с Амвросием в долгий торг, пытаясь выпросить хоть малую уступку; тот на все ее просьбы неизменно отвечал отказом.
Все это время Меркурин находился рядом с нею, помогал Юстине вести бесконечную переписку с епископом. Видел, как раз за разом коса находила на камень. Искры так и сыпались, грозя поджечь все вокруг.
«Повелеваем отдать нам Апостольскую базилику в центре города, ибо такова воля наша, согласно закону, опубликованному 23 января сего года…»
«Нет.»
«Не желаем кровопролития и потому не прибегаем к насилию, но надеемся на полюбовное согласие. Отдай мне хоть малую Порциеву базилику. Из тех, что за городскими стенами!»
«Нет.»
«Хорошо же. Давай встретимся, епископ, и поговорим. Соберем комиссию. Пусть разбирают спор наш десять доверенных лиц, по пять человек с твоей стороны и по пять с моей. Докажи перед всеми, что прав ты, так поступая со мной и моими единоверцами.»
«Не стану ничего доказывать.»
И отказался защищаться; но и уступать не захотел. Просто «нет» и все.
(Тут-то Валентиниан и разразился слезами.)
Чтобы успокоить свое дитя и унять колотившееся сердце, послала Юстина в город солдат, повелев оцепить все храмы и патрулировать улицы. Это было разумно, ибо оскорбленные ариане (по большей части остроготы) и кроткие овечки стада амвросиева могли поддаться соблазну и начать убивать друг друга.
Только в желании сохранить в городе порядок и сходились между собою императрица и епископ. И потому был в Милане порядок. И даже когда в одной церкви народ улучил-таки минуту и передрался, Амвросий мгновенно потушил пожар – хватка у него осталась еще с прежних времен губернаторская. И обошлось без крови, хотя у верующих в Бога Единого так и чесались руки в преддверии светлого праздника Пасхи. Только нос какому-то арианскому пресвитеру сломали и двух благочестивых приверженцев Амвросия едва насмерть не затоптали. Мелочь, если подумать о том, что могло случиться.
* * *
Меркурин Авксентий бродил по весеннему Медиолану. Чужим был для него этот большой красивый римский город, заложенный галлами шестьсот лет назад. Все здесь чужим было – и высокие дома, и мощеные улицы, и мрачноватые, темным камнем и кирпичом сложенные храмы. И впервые за долгие годы потянуло Меркурина домой, в скромное, полное простых трудов житье, под суровый пригляд нового епископа готского – Силены.
Милан перезимовал. Он был полон предчувствия весны. Шла Страстная седмица. Тяжесть давила на души извне, а внутри, в глубине этих душ, уже зарождалась радость – еще не созревшая, еще только зреющая. Еще седмица – и вырвется радость на волю, разметав бесследно и тяжесть, и грусть, и злобу, что за год накопились и грузом на душе осели.
Меркурин остановился возле большого храма в центре города – Великой базилики. Большие, как городские ворота, двери были затворены, но неплотно, будто приглашая войти. Из окон сочился свет, слабый, точно устал за ночь. Люди, собравшиеся в храме, ночь не спали – молились, пели, ждали чуда. Это смутно надвигающееся чудо могло быть чем угодно. Если бы Юстина повелела сейчас своим молчаливым аланам спалить храм вместе с прихожанами, они и это сочли бы долгожданным чудом.
Аланы жгли костры у базилики, расположившись вокруг нее, но не сплошным кольцом, как в первые дни оцепления, а треугольником: по посту с обеих сторон от входа и еще один пост сзади, где имелось большое окно. Разворотили камни мостовой, вбили в землю столбы, устроили коновязь.
Жевали мясо и хлеб, переговаривались, пересмеивались. Огромные тени аланов тускнели на стенах базилики, ибо уже занималось утро, и небо постепенно светлело, умаляя яркость огня.
Большой город не желал ложиться спать. Повсюду бродили люди, словно охваченные смятением. То на алан поглядывали, то на храм, то друг на друга. И все чего-то ждали. Чего? Штурма? Общих слез примирения?
Меркурин спрятал руки в рукава римского плаща. Ему было зябко. Он вышел на улицы, чтобы без помех поразмыслить над происходящим. Недавно один знакомый гот передал ему, будто медиоланский пастырь вовсю честит Меркурина Авксентия и именует его «диаволом». Стало быть, проняло-таки Амвросия. Это хорошо.
По совету Меркурина, императрица оставила сутяжничать с Амвросием и прижала торговцев. Для всех, кто исповедует с Амвросием одну веру, установила новый налог. И немалый. Пусть позлятся на своего обожаемого епископа. Не проявлял бы упрямства, не вынудил бы и государыню за самое чувствительное место купцов тяпнуть – за деньги. Купцы действительно ворчали, но на саму императрицу. И деньги покорно принесли.
Бавд, как узнал, раскричался. Какие только мысли гуляют по женскому умишке Юстины? Да понимает ли она, что делает? Эти проклятые торгаши!.. С них станется ради своего Амвросия город голодом уморить. Амвросий опять выходит героем, а вот Валентиниан потеряет царство.
Башней надвинулся на Юстину консул Бавд: русые патлы до яиц, усы, как угри, до пупа; скуластое лицо иссечено шрамами и ранними морщинами.
– Отступись, Юстина. Не видишь разве? Амвросий сильнее тебя. Царство дороже базилики, поверь.
Красивая женщина губу закусила, на глазах вот-вот слезы проступят. И ненавидела она Бавда смертно в эту минуту, ибо прав был франк.
И Меркурин тоже это знал.
Для того и пришел сейчас к храму Меркурин Авксентий, чтобы понять: в чем сила Амвросия? В воздухе она, что ли, разлита?
Рядом с Меркурином остановился еще один человек. Не глядел ни на грозных алан, ни на уличных зевак, готовых в любую минуту сплотиться и стать грозной толпой. Жадно, будто голодный на хлеб, уставился на закрытые двери базилики. Тяжелые деревянные створки, обитые медными полосами с крупными бляхами на месте перекрестий полос. Возле дверных колец медь начищена прикосновениями рук и блестит.
Меркурин вспомнил, где видел его прежде – у Юстины. Знаменитость. Преподаватель риторики, о котором Меркурин еще при первом взгляде на него подумал: лишь бы среди сторонников Амвросия его не было. Ибо сила в том человеке угадывалась страшная.
Меркурин одолел неприязнь (не любил и не понимал страстных людей и потому опасался их), заговорил с тем человеком, имя которого забыл. Спросил его:
– Как ты думаешь, почему все, что бы ни делалось, оборачивается на пользу Амвросию?
Тот человек повернулся. Он стоял лицом к востоку. Каждая черта его темного лица была ярко освещена. Темным казалось оно не потому, что от природы было смуглым; темным делала лицо это сила, которая таилась в том человеке.
И сказал тот человек – с жадной тоской, точно говорил о недоступной возлюбленной:
– Потому что Амвросий прав.
* * *
«Прав!..»
Слово сказано и жжет нестерпимо.
Впервые в жизни Меркурин испугался по-настоящему. Смерть подступала близко – не боялся; одиночество и голод сторожили за порогом – но и тогда не одолевал его страх; теперь же, усомнившись в собственной правоте, увидел перед собой разверстую пропасть погибели – и устрашился.
Затравленным зверем метался по чужому красивому городу, себя проклинал. Зачем только вырвался из тесной родной земли? Не видеть бы ему чужих людей, не ведать сомнений – хотя бы эту, земную жизнь прожить в покое, с простеца и спрос другой.
А весна надвигалась, неотвратимо, как смерть, неся на влажных широких крыльях Страдания и Пасху.
Меркурин сам не заметил, как выбрался за черту города. Вот она, маленькая кладбищенская базилика, куда императрица не допускает Амвросия, а Амвросий – императрицу. Стоит, черная в рассветной полутьме, пустая, холодная. Чуть поодаль десяток алан жгут костер, переговариваются, смеются. Неслышно ходят в ночи их лошади, только фыркают иногда.
Меркурин остановился, рассматривая базилику. Скучно ей, должно быть. Душа сама потянулась к святому месту, и Меркурин решил: войду, аланы не заметят! – и взялся рукой за двери…
И едва успел отпрыгнуть! Еще бы немного – без зубов бы остался, с переломанным носом.
Створки, предупреждая прикосновение чужой руки, стремительно распахнулись, и из темной базилики вырвался ветер. Пригнул к земле аланский костер, разволновал деревья. Слышно было, как кричат в отдалении аланы, как ржут и бьют копытами лошади.
Меркурин осторожно приблизился к раскрытым дверям. Слезы бежали по лицу густым потоком – опальный епископ Доростольский заметил их лишь тогда, когда насквозь промочили его одежду на груди и плечах. Шумело вокруг все сильнее – ветер это ревел, нарастая, или пламя костра, Меркурин не понимал.
Язык пламени ворвался в узкое окно базилики и заметался под потолком, оставляя везде легкие черные мазки. А затем разом вспыхнули в базилике все лампы и лучины и стал виден низкий каменный крест и две птицы, изваянные наверху его перекладины. Меркурин хотел было молиться у этого креста, но его не пустило войти – толкнуло в грудь, бросило на землю; тогда он простерся у порога и стал молиться там.