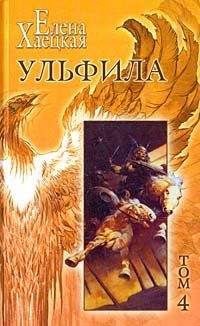Язык пламени ворвался в узкое окно базилики и заметался под потолком, оставляя везде легкие черные мазки. А затем разом вспыхнули в базилике все лампы и лучины и стал виден низкий каменный крест и две птицы, изваянные наверху его перекладины. Меркурин хотел было молиться у этого креста, но его не пустило войти – толкнуло в грудь, бросило на землю; тогда он простерся у порога и стал молиться там.
Помоги мне, Господи, ибо я сирота.
* * *
В Великий четверг аланы нежданно-негадано были отозваны, оцепление снято, а торговцам к Пасхе сделан от правительства подарок – все выплаченные штрафы были возвращены назад.
По этому случаю Амвросий разразился огромным посланием, в котором расписывал свою победу всеми цветами радуги. Эпистола была адресована его старшей сестре Марцеллине, которая жила в Риме. Частный характер послания совершенно не препятствовал многочисленным копиям этого письма гулять по всему Медиолану.
Меркурин Авксентий, разумеется, эту эпистолу читал.
Сочинение амвросиево, то гневное, то забавное, то тяжелое от подробностей, не отпускало, заставляло дочитывать до конца. Будто историю сплел, вроде тех, какими готы друг друга за пивом развлекают. И о чем бы ни писал Амвросий, какой бы темы ни коснулся, – все к своей правоте вел.
Долго сидел задумавшись Меркурин Авксентий. Наконец резким движением к себе придвинул таблички. На воске еще остались не затертые строки – черновик последнего письма императрицы к Амвросию: «…Скажи прямо, епископ, чего ты добиваешься? Какова твоя цель? Не захватить ли власть в Медиолане, дабы править здесь единолично и тиранически?..» Амвросий даже не соизволил дать на это ответ.
Меркурин старательно затер императрицыно письмо. Начал:
«Давно просил ты меня, любезный Палладий, рассказать, каков был Ульфила, епископ готский, истинный отец для нашего народа, – ибо кем, как не отцом, считать того, кто составил азбуку для записи готской речи и переложил на наш языческий язык боговдохновенные письмена…»
Палладий был один из арианских епископов и служил некогда в Иллирике. Меркурин и сам не знал, почему обратил письмо именно к нему. Имя Палладия первым пришло на ум; на самом же деле – как и все, что он делал в эти дни, – эпистола адресовалась Амвросию.
Ульфила – вот самый сильный довод в споре с пастырем медиоланским.
«Я знал его с детства моего, – торопливо писал Меркурин, сажая одну грамматическую ошибку за другой. – Столько сделал он для меня, взяв от родителей моих и окружив заботой, точно собственного сына…»
(…бесконечные драки, краденые яблоки и тайком выпитое у соседей молоко, порванная одежда, ложь и лень, дерзости и препирательства…)
«…Не одним только словом учил он народ наш, но и всей жизнью своей, которая вся была подражанием жизни Господа нашего Иисуса Христа и святых Его. С детства просвещенный светом крещения, вышед из среды угнетенной, в одночасье возвысился до сана епископского, не по земному бытию своему, но по высотам духа. Ты спросишь, кем был он в дни молодости своей? Ничего труднее этого вопроса не придумаешь. Ни раб, ни свободный (ибо не было у него земли), сперва чтец, а после сразу епископ, рождением каппадокиец, но истинный вези и духом, и сердцем, и умом – таков был он, таким и вошел туда, где нет ни «еллина, ни иудея».
Он умирал в Константинополе на руках моих и еще одного пресвитера готского по имени Фритила. В те дни государь Феодосий объявил нас вне закона и запретил нам собрания хотя бы и за чертой города, о чем тебе известно не хуже, чем мне. Зная, что наше вероисповедание имеет немало подвижников и мучеников, сам претерпевший страшное гонение от Атанариха, князя готского, обратился тогда Ульфила к государю, и тот обещал ему собор «о вере». Чем завершился собор тот, помним мы слишком хорошо.
Но не только поражение от Феодосия и единоверцев его, не только ужасные последствия засухи и неурожай, так что думали, будто настает конец света, не только набег от гуннов претерпели мы в том году. Унес тот год и жизнь Ульфилы.
Хотя умирал посреди крушения надежд своих, это была светлая кончина – благая и радостная, ибо шел на свидание с Тем, ради Кого трудился всю жизнь не покладая рук.
Зная, что скоро земные уста навсегда замкнет печать смерти, обратился ко мне, дабы я записал последнюю его волю. Не о земных благах пекся, ибо никогда не имел таковых; завещал то драгоценное, что в душе хранил…»
…Шел Меркурин Авксентий к Ульфиле – тот умирал уже – и Фритигерна повстречал. Хмурился князь, будто обидели его или он кого-то обидел; что прилюдно заплакать боится Фритигерн – то и в голову Меркурину не пришло.
На Фритилу, как петух, наскочил Меркурин. Кричал на верзилу пресвитера – шепотом, чтобы Ульфилу не тревожить. Как только мог Фритигерна к епископу допустить? Знал же, что не выносит Фритигерна епископ! Для чего князю через порог переступить позволил? Не для того ли, чтобы он Ульфилу в гроб вогнал!
Фритила этому Меркурину Авксентию одним ударом кулака шею переломить мог; просто Ульфилу расстраивать не хотел: знал, что привязан старик к драчливому и вздорному епископу Доростольскому. Фритила поступки ульфилины не то что судить – обсуждать не смел, ибо любил его слепо, не рассуждая.
Авксентий Фритилу распекал до тех пор, пока из соседней комнаты, из-за занавеса, глуховатый голос Ульфилы не донесся:
– Меркурин.
Меркурин Авксентий Фритилу оставил и к Ульфиле вошел.
Остолбенел.
Впервые увидел то, что прежде замечать отказывался: Ульфила действительно умирал. Лежал в постели, точно в гробу, кожа на скулах натянулась, рот ввалился. Смерть еще не завладела им, но уже изменила это лицо, с детства любимое.
И испугался Меркурин Авксентий.
После нежелание свое замечать эту близость смерти приписывал большой любви, какую к Ульфиле испытывал; на самом же деле проистекало все от детского себялюбия – боялся Меркурин остаться на земле один, без Ульфилы.
Смотрел Ульфила на него, будто из далекого прошлого. Из того дня, когда из готского села в Македоновку дохлая корова приплыла. Сравнивал, прощался.
Хотел было спросить Авксентий, зачем лис-Фритигерн приходил. Но не посмел.
Ульфила на столик махнул, где дощечки восковые лежали.
– Возьми.
О, как понимал сейчас Евсевия! Не уйти без наследника на земле, среди людей, – вот первая забота. Прочие же – боль в груди, слабеющие руки, угасающая воля влачить на себе это измученное тело, эту бренную помеху, истинный гроб для огромной, крылатой, на волю рвущейся души, – эти заботы как будто и не гнетут его вовсе.
Авксентий в ногах постели стоит, дощечки в руках прыгают. Хотел бы Ульфила утешить его, но не мог. Никогда не умел людям слезы вытирать. А сейчас еще и некогда ему было.
«Не плачь» – хотел бы сказать Меркурину, а вместо того велел:
– Пиши.
Будто ребенку, которого грамоте обучал.
И начал было:
– Ik, Wulfila, gudja jah…
После рукой махнул. И снова начал, по-латыни, чтобы слова его в Империи ромейской всем внятны остались:
– Ego Ulphila episkopus et confessor semper sic credidi…
«…Я, Ульфила, епископ и исповедник, всегда веровал так…»
И продиктовал символ веры своей, чтобы сомнений не оставалось, ни сейчас, ни потом: Ульфила-гот веровал так.
Все остальное может порасти травой забвения, но только не это, ибо вот единственное из всего земного наследия, о чем не следует строить ни догадок, ни предположений.
И еще велел написать Ульфила, что завещает народу своему и князю Фритигерну, которого благословил, мир и любовь. Но места на табличке больше не было, и Меркурин хотел после записать слова эти; после же забыл…
«Не к такой ли кончине следует стремиться? – писал Меркурин Палладию (Амвросию, Амвросию, Амвросию!) – Но чтобы умереть, как умер епископ Ульфила, надлежит прожить такую жизнь, какую прожил он…»
Глава десятая
Selenae Imperium
(387 год)
Были еще и другие готы, которые называются Малыми, хотя это – огромное племя; у них был свой епископ и примас Вульфила, который, как рассказывают, установил для них азбуку. По сей день они пребывают в Мезии, населяя местность вокруг Никополя, у подножия Эмимонта; это – многочисленное племя, но бедное и невоинственное, ничем не богатое, кроме стад различного скота, пастбищ и лесов; земли их малоплодородны как пшеницей, так и другими видами злаков; некоторые люди там даже вовсе не знают виноградников, – существуют ли они вообще где-либо – а вино они покупают себе в соседних областях, большинство же питается молоком.
Иордан Готский
Пока Меркурин Авксентий о судьбах Империи, как умел, пекся, семья его в Македоновке не процветала. Детей в той семье народилось много, до отроческих лет шестеро дожили. Трех, а то и двух лет без ребенка в семействе у Авдея не обходилось. И все на диво прожорливые урождались. Почти все в отца – красивые, веселые, ни к какому труду не способные, будто лилии полевые, что не сеют, не жнут, а все равно с пустым брюхом спать не ложатся.