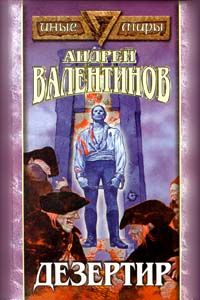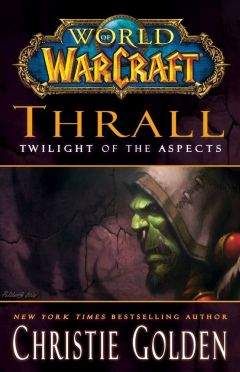— Неужели до самой Венеции? — поразился я, кивая на странный прибор. Все еще не верилось — гальваническая банка, пара цилиндров, колокольчик, колба с опилками под названием когерер…
— До Венеции, Лондона и Кобленца. Пока… Через несколько лет можно будет посылать привет прямиком друзьям Франклина в Филадельфию. Верите?
— Нет. Пока еще — нет.
Я представил себе океан — тысячи лье без единого клочка суши, темно-серые волны, уходящие за горизонт, неизведанные глубины, откуда нет возврата. Если бы на фрегатах Лаперуза был такой когерер, д'Антркасто успел бы вовремя…
— Воля ваша, сударь! Ну, пора…
Он вновь взглянул на часы, достал из кармана камзола листок бумаги, развернул, положил перед собой. Не удержавшись, я подался вперед. На листке не было букв, только точки, выстроившиеся в долгий ряд. Леметр уловил мой взгляд, подмигнул, щелкнул переключателем на одном из цилиндров. Широкая ладонь легла на рычажок. Дзинь! Колокольчик ожил. Дзинь, дзинь, дзинь…
Я застыл на месте, не решаясь пошевелиться. Как просто! Арестантская азбука, посланная в эфир. Неуловимая, неслышная… Гражданин Вадье может окружить Париж целым легионом санкюлотов, перекрыть все дороги, отменить пропуска, может повеситься от злости — или сунуть голову в черном парике под «национальную бритву». Дзинь, дзинь, дзинь — позвякивал колокольчик. Увы, господа якобинцы, увы… Вам придется сначала выдумать такую же «простейшую вещь». А ваши мозги сейчас заняты совсем другим…
Не знаю, сколько я простоял, глядя, как загорелая рука нажимает на рычажок, слушая, как негромко позвякивает колокольчик. Наконец Леметр шумно вздохнул и, достав огромный платок с кружевами, вытер вспотевший лоб.
— Пока все… Ну, будем ждать ответа. Впрочем, ему никуда не деться.
— Д'Антрегу? — понял я, все еще не веря. Неужели в эти минуты в далекой Венеции граф уже читает невидимое послание? Нет, не читает, наверно, перед ним тоже — долгие ряды точек, их еще следует расшифровать…
— Я посоветовал срочно подготовить пару ложных бюллетеней и обязательно указать фамилию нашего, хе-хе, шпиона.
— Какую? — удивился я.
— Это я подскажу ему в следующий раз — когда вы назовете мне подлинную. Лучше всего, чтобы гражданин Вадье занялся де Сешелем. Отличная кандидатура! Признаться, не верится, что этот негодяй нам помогает. Зато для гражданина Вадье сей господин всем, хе-хе, хорош. Бывший аристократ, дружил с Бриссо… А потом мы кое-что подкинем и сами — чтоб, хе-хе, понадежней было. И еще денег попросим. Иначе гражданин Вадье того и гляди, хе-хе, не поверит!
Я кивнул — расчет был точен. Эро де Сешель отправится на эшафот за чужие грехи. Внезапно в душе шевельнулось странное чувство. Жалость? Негодование? Или просто омерзение? Убить врага в бою — одно, а ударить из-за угла…
— Пойду! — я отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с этим странным человеком. Казалось, его не в чем упрекнуть. Потом, когда Франция воскреснет, одноногий, наверно, станет пэром. И Руаньяк тоже не остался бы без награды! Руаньяк, сжигавший деревни, убивавший пленных и — приговоривший к смерти моего друга. И меня бы тоже наградили. Еще бы! Все вместе мы убивали врагов — свинцом, шпагой, картечью — или невидимыми волнами в эфире…
Оставалось узнать у голубоглазого его адрес. Комитет гражданина Робеспьера заседает каждый день, и, вполне возможно, уже завтра…
За окнами была ночь, неярко горели свечи, и тени обступили нас со всех сторон. Лицо Демулена, сидевшего рядом со мной, казалось в сумеречном свете старым, словно Прокурор Фонаря уже перешагнул седьмой десяток. Вильбоа черным силуэтом застыл у окна, Юлия сжалась в комок в огромном кресле, утонув во тьме.
— Н-ничего, — вздохнув, повторил Камилл. — Жорж сказал, что н-ничего не поделаешь. Надежда одна, сейчас б-бриссотинцев почему-то не т-трогают, семьдесят два депутата с-сидят в Аббатстве уже полгода…
— Д'Энваль — не депутат, — негромко возразил Вильбоа. — И еще это письмо…
Да, наш ирокез угодил в западню. То, что удалось узнать за день, не обещало ничего хорошего.
— Неужели они не понимают? — голос Юлии звучал глухо, еле слышно. — Альфонс — не политик, он просто…
— П-просто дружил с Барбару, — Демулен покачал головой. — Просто навещал мадам Ролан. И п-просто переписывался с К-корде…
Никто не ответил — Камилл был прав. Пусть в гости к бывшему министру Ролану и его знаменитой супруге ходило пол-Парижа, пусть перед отважным марсельцем преклонялся сам Робеспьер, пусть злосчастное письмо так и не было прочитано бедолагой Альфонсом — в тот день он вообще уехал из Парижа. Мене, такел, фарес! Республика, Единая и Неделимая, постановляет…
— Когда суд? — как можно спокойнее поинтересовался я. Растравлять рану не хотелось, но вопрос не был праздным. Если у нас будут еще дня три…
— Через четыре дня, — негромко проговорил Вильбоа. — Гражданин Тенвиль готовит амальгаму.
Странное слово удивило, но переспрашивать я не стал. Бог с ним, с их людоедским языком!
— Почему… — Юлия не договорила, послышался резкий вздох. — Почему так называется?
Похоже, гражданка доктор за делами тоже не удосужилась выучиться якобинскому арго.
— К-как в химии, — отозвался Демулен, — соединяем т-трудносоединимое. Берем од-дного фальшивомонетчика, д-двух воровок, шпиона и двадцать невиновных. Получаем к-коварный заговор шпионов, воров и фальшивомонетчиков. Изобретение г-гражданина Фукье-Т-тенвиля… Извините, Юлия…
А еще говорят, что революции не нужны химики! В эту минуту я был готов извиниться перед Пьером Леметром. Нет, сантименты излишни, с этими негодяями все средства хороши!
— Пойду! — гражданка Тома встала. — Спасибо вам, граждане! Завтра попытаюсь поговорить с одним человеком. Может быть… Не провожайте меня.
Мы переглянулись. Я сделал знак остальным и поспешил вслед за девушкой. Заметив меня, она удивленно повернулась:
— Вы что, Франсуа Ксавье, не слышали? Я не нуждаюсь в вашей помощи!
— Юлия… — начал я, но девушка махнула кулачком:
— Идите к черту, Франсуа, с вашим рыцарством! Вы что, думаете, я не знаю, кто вы? Вы — жалкий «аристо», к тому же совершенно больной и ко всему еще — трус! А если у вас все-таки хватит смелости, идите завтра же к доктору д'Аллону, я договорилась… Что вы делаете?! Прекратите немедленно!
Я отпустил ее руку, которую умудрился сжать слишком сильно. Обижаться было нельзя — Юлия едва держалась. Другая на ее месте давно уже билась бы в истерике — или просто лежала без чувств.
— Никуда не ходите, Юлия. Ни с кем говорить не надо.
— Что? — В ее близоруких глазах мелькнула боль. — Как смеете вы, вы… Вам все равно, что с ним случится…